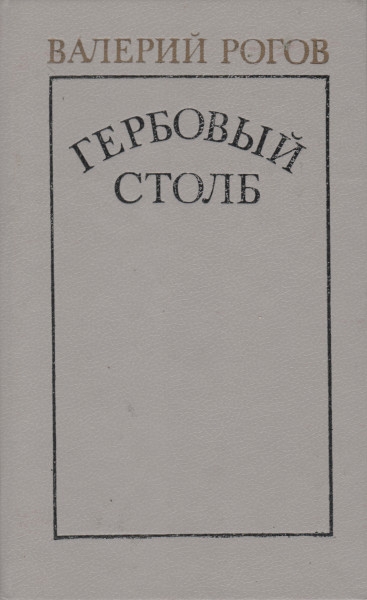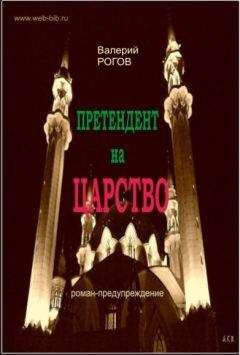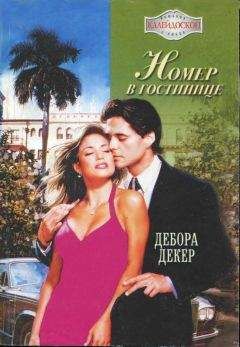и со множеством разнообразных людей, неподдельно удивлялись личностной необходимости, душеполезности такого общения и постигали, что
именно так когда-то разговаривали с приходящими мирянами, верующими или неверующими, оптинские старцы.
Конечно, как подобает в таком месте, мы спросили отца Евлогия — как надо жить? Думаю, что таков был всегда главный вопрос к оптинским старцам, о чем бы им ни исповедовались, каких бы наставлений ни просили. Отец Евлогий отвечал на этот вопрос притчевым образом преподобного Амвросия, который сравнивал жизнь человеческую с колесом. То есть жить человек должен в движении, как бы катиться подобно колесу, когда нижняя точка заземлена, никогда не отрывается от Земли, от дел насущных, а верхняя точка всегда в высоте, в духовной благодати, как бы соприкасается с Небом. То есть правильность мирской жизни и в высоте, и в заземлении, — и в вечном движении! Плохо, когда жизнь тянется лежняком, волоком по суете земной, подчиненная лишь быту. Человек должен возвышаться над унынием повседневности...
Что ж, в этом образе, понятном и мудрецу, и ребенку, угадывается великий смысл...
Мы спросили отца Евлогия и о конце света, о чем тогда много писали некоторые газеты и даже называли точные даты апокалипсиса. Он сказал, что православная церковь в отличие от католической печется не о массе людской (не тщеславится количеством верующих), а о каждом отдельном человеке; и о тех, для кого «конец света» уже наступил, потому что они творят зло, а значит, живут во тьме, лишенные откровения (апокалипсис в переводе с греческого на русский — откровение). А потому каждый умирает в себе, совершая злые дела и поступки. Он уже мертвец, хотя и продолжает жить. Поэтому, говорил о. Евлогий, нужно очищение, нужно, чтобы в душе каждого человека теплился свет и никогда не погас. То есть «конец света» в церковном (православном) истолковании — это не понятие всемирной катастрофы, связанной, скажем, с причинами космического порядка или с нынешним экологическим безумием человечества. «Конец света» — это омертвелость души.
«Можно быть мертвым и живя, — говорил о. Евлогий. — И такой человек уже ничего не боится. — И добавлял: — Спасение — в свете. Когда душа приобщается к добру».
Для меня как-то по-новому вдруг открылся смысл «мертвых душ», общежитейского термина, введенного Николаем Васильевичем Гоголем. Или, помните, у Блока: мертвец среди живых. Вот такие, например, строки: «Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим». Вспомнилась и недавно пережитая нами всеми эпоха брежневщины, когда тупое единомыслие и освещение лишь результатов материально-хозяйственной деятельности (бездарной!) делали многих и многих обездушенными, омертвелыми. Для скольких же тогда был «конец света»?
Мы попросили отца Евлогия растолковать библейское выражение — блаженны нищие духом. Он отвечал, что смысл тут прост: «нищие духом» — это те, кто освободился от страстей, от тщеславия, от жажды накопительства. То есть сделался свободным для того, чтобы творить добро, в этом — блаженство.
С отцом Евлогием, мы чувствовали, можно беседовать часами, постигая в тихой радости притаенные стороны и закоулки человеческой души. Он сравнительно молод, лет пятидесяти, полон сил и энергии. И мудр — в той области познания и духовных постижений, которая, как мы заново осознали, касается каждого человека. Будь он на самом верху или в самом низу, богат или беден, — каждого!
Монашеское праведничество, замечу, требует целожизненного подвига, причем не «во имя свое, а во имя Истины». Праведники никогда не покидали Русскую землю, и в этом, между прочим, вековая особенность русских в отличие от народов Западной Европы, да и наших прибалтов. Не рыцарство отличает русского человека, а подвижничество. Подвижничество, обусловленное Высшей Правдой и зиждимое на патриотизме. Подвижничество, не исключающее героических поступков.
На прощание наместник Оптиной Пустыни архимандрит Евлогий (Смирнов) сказал: «Все наши помыслы, помыслы людей верующих, проникнуты глубокой заботой о грядущем облике Отечества».
6. Выстоял посреди России
Из Оптиной Пустыни мы отправились в Белёв и дальше — в Болхов, Орел. По «Атласу автомобильных дорог» все выглядело убедительно. К тому же и собственные представления не внушали сомнений: все-таки исторический центр России, где веками складывались пути-дороги, именуемые трактами; вот этот, из Козельска (Оптиной) в Белев — белевский, далее из Белева в Болхов — болховский, ну и орловский... Когда-то княжества существовали — Белевское, Болховское, потом присоединились к Московскому государству, но пути-то (дороги, тракты) не исчезали; их даже можно назвать вечными: во‑о‑он из какой тысячелетней дали тянутся...
При пересечении оптинского асфальта с козельским трактом стоял внушительный международный знак — тоже новенький! Точь-в-точь такой, какой был бы, скажем, в Италии, или там на Британских островах, или в тех же Соединенных Штатах, да где угодно — синего цвета в белой обводке с белыми же письменами: «Белёв, 47 км». Очень достойно выглядел — обнадеживал, убеждал.
В самом деле, чего тревожиться? — подумали мы. Разве не миллиарды вложены в подъем так называемого Нечерноземья? И всегда ведь подчеркивалось, мол, в первую очередь на строительство дорог. Думалось: наконец-то вот и Россия дождалась; пронесемся с ветерком менее чем за час...
Но, по-видимому, никогда не следует забывать предупреждение Козьмы Пруткова: «Не верь глазам своим!» К тому же не менее вечна и наша дорожная истина: начиная путешествие, обязательно расспроси местных жителей, особенно тех, которые за рулем. В общем, через километр новенький асфальт кончился, и пошла жесткая, корявая «бетонка» — бетонные плиты, выложенные абы как, перекосившиеся, выщербленные, а потому двигаться пришлось осторожно, почти с воловьей скоростью... Но истины ради скажу: «прогресс» все же! На бетонке не застрянешь в вязкой грязи, лежащей на обочинах после прошедших грозовых ливней. Особенно смущало отсутствие всякого транспорта. Но все-таки, не спеша двигаясь; добрались мы до деревни Грязна́, последнего населенного пункта Калужской области.
Смысл имени «Грязна» мы осознали потом, чуть позже, а пока дорога стремительно падала по крутизне обширного оврага, будто в горное ущелье, и вдоль нее мелькали стародавние избы Грязны, часто покосившиеся; иные были заколочены и торчали лишь ветхими крышами среди буйного бурьяна. За выездом из деревни «бетонка» резко оборвалась, и начался обычный проселок, правда чуть присыпанный щебнем. А через сотню метров мы намертво затормозили: перед нами во всей необъятности распласталась огромная лужа. Да что там лужа — озеро! Мутная, непроглядная вода яростно сияла на полуденном солнце, будто хохоча, будто призывая нас: а ну-ка, одолей! Объехать ее по черной жирной грязи было просто немыслимо. Преодолевать ее можно было