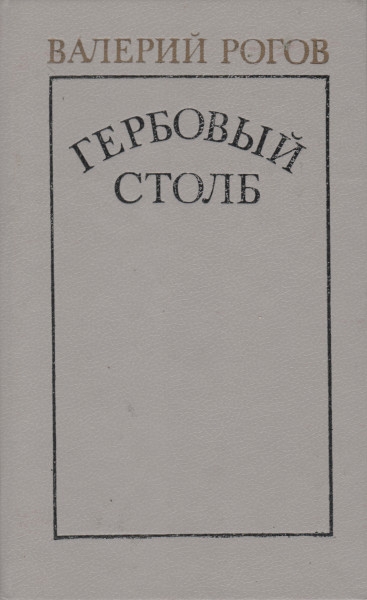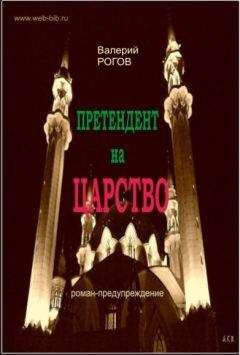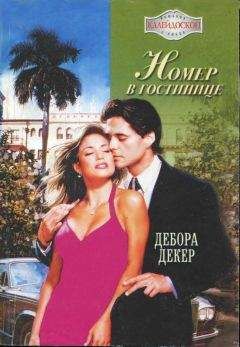решимость, сверхжелание, по крайней мере, чтобы преодолеть его, не сдаваться, понадеявшись на русское «авось». Впрочем, равнозначное безоглядной, безотчетной «храбрости» да искренней вере в доброе напутствие. И я пишу это не в похвалу себе, не в доказательство того, что в России, выражаясь по-блоковски, «и невозможное — возможно», а лишь ради
всей правды, которая нынче существует. И тогда уж, заканчивая описание белевского «тракта», ради полной справедливости упомяну о том, что два года назад, на въезде в Белев, тоже
эту дорогу заасфальтировали, километров на пять (конечно, по причинам районных хозяйственных нужд), но вот в эрэсэфэсэровской отчетности она, нам думается, вся гладенькая — лети с ветерком, прямо-таки как по международным трассам в этих самых... Ах, да бросим иронию! Грустно.
Давно замечено (убежден, и вами, читатель), что тот, кто пускается в отчаянные предприятия, обязательно получает нежданный подарок. Был такой подарок и нам: где-то за деревней Староселье, бывшей во времена оные, как Грязна, громадной и зажиточной, а ныне совсем оскудевшей, с бытом прямо-таки послевоенным, будто за окном голодный 47‑й год, так вот, за Старосельем, когда началось то самое пугающее безлюдье среди зеленой волнистой равнины с несколькими горизонтами — красивы, очень красивы волнистые дали с темно-светлыми, дубово-березовыми перелесками — так вот, в этом безлюдном просторе под палящим солнцем, под выплывающими из-за круглого перелива холмов белоснежными облаками, словно вершинами Гималаев — ах, как красивы порой летние облака! и мало кому из живописцев удавалось их запечатлеть; так вот, в этой несказанной, поистине божественной природной красоте мы вдруг остолбенели. В буквальном смысле слова: перед нами, чуть в стороне от дороги, величественно возвышался каменный столб с гербами губерний — Калужской и Тульской, увенчанными двуглавыми орлами Российской Империи. Губернская граница оказывается, пролегла вот здесь, у этого державного столба.
Удивительно, конечно, что этот каменный знак до сих пор сохранился, но и объяснимо именно тем, что редкий человек ныне посещает сии палестины.
Мой Паша, Павел Владимирович Пантелеенко, как кот ученый, чуть ли не мяукая сладостно, ходил вокруг этого гербового столба и чистейшим носовым платком (романтик!) тщательно вытирал и российских имперских орлов, и два губернских герба, как бы даже полируя их, чтобы заблестели. Я понимал его: душа путешественника, первооткрывателя светилась в нем, отражалась блаженством на лице, и я подумал, что если бы все же отправился в мечтаемую кругосветку под парусами и открыл не ведомый никому остров, то это было бы примерно равнозначно этому дорожному подарку.
Ходил Павел вокруг столба, все еще стройный, моложавый в отличие от многих из нас — располневших, рано поседевших, а то и совсем лысых; горделивый, самоуглубленный и недоступный Навел, всегда молчаливо и строго поглядывавший в университете на стайки филологинь, которые почти все были в него влюблены; и та первая, догадавшаяся, что душа его совсем не соответствует внешней надменности, важничанью, а мечтательная, незащищенная, просто детская, именно она, Ольга Ярцева, стала его женой; и я не знаю за Пашей любовных похождений: не женская красота его влекла и волновала, а красоты иные, неведомые, неизвестные. В общем, Павел ходил вокруг столба — он его полюбил.
— Ты знаешь, старина, — наконец-то заговорил он, — в этом скромном столбе ведь вся российская суть отражена. А суть эта: удельность и соборность. Вот две губернии, два удела, равнозначные европейским государствам, а над ними имперский двуглавый орел — символ единения, государственности, то есть соборности.
Я молча согласился.
— Понимаешь, старина, — не унимался он, — вот уже который век, начиная с неистового Петра, мучаемся мы над тем, как России сравняться с Европой. А ведь есть тут ложность посыла — несравнимы мы. Европа, западная, — разноплеменна, а европейский Восток — славянский, соборная Русь. И знаешь ли, часто мне грезится красивое, величественное государство от Белого до Черного моря; этнически единое, но многообразное в своих землях — уделах, в своих губерниях, провинциально-республиканских.
— Мечтатель ты, Паша, — возразил я. — К тому же совсем не современный.
Я развил мысль, сравнив эти «республики-губернии», Калужскую и Тульскую, отчего-то с Бельгией и Голландией, повернув проблему к тому, что, мол, в самом деле, когда же уровень российской жизни сравняется с западноевропейским, с тем же бельгийско-голландским? Павел с достоинством, но возбужденно отвечал, что это может быть достигнуто очень скоро, если «губернии-республики» начнут работать только на себя, скажем, Калужская сосредоточится на возделывании льна — «экий товар за рубежи!» — а Тульская — на своем металлическом умении: «аглицких блох подковывать!»
— Но в развитии удельности, — говорил он, — путь неверный и опасный, потому что можно попасть в кабалу тех же транснациональных корпораций или тех же бельгий с голландиями, которые уже разжирели и алчат кого-то поглотить.
Экономическая фантазия Павла была, конечно, сумбурной, хотя и вполне реальной. И он вновь подчеркнул: только соборность! То есть: такая однобокая удельность, приносящая большое благополучие, возможна при общерусской, или общероссийской, соборности. Потому что отбрасывание идеи соборности погибельно для национальной России.
— Ах, Паша! — воскликнул я. — Ты опять о национальном? А о чем сейчас повсюду речь ведется? О планетарном мышлении, о единстве всего человечества, о том, чтобы все сделались гражданами мира.
— А-а, — отмахнулся он. — Все это ложь, очередное заблуждение, суета сует. Очередной виток политики! А я думаю о будущем. Я идеал выстраиваю. Знаешь ли, старина, я не верю и никогда не смогу поверить, что национальное — а это божественное — когда-либо исчезнет. То есть при любом научно-техническом прогрессе. Это тоже одно из заблуждений; ложная гордыня человечества. Если оно преуспеет в этом — в создании вавилонов, то есть сверхгородской цивилизации, то погибнет. Это путь погибели, как ни называй его — экономической катастрофой, или демографическим взрывом, или новыми расовыми нашествиями. Ныне конец тысячелетия, и пора остановиться, разумно взглянуть на все сущее вокруг: на природу, на себя, на науку. А национальное все равно останется, — упрямо настаивал он, — до последнего погибельного дня, до всемирной катастрофы.
— Ну, дорогой мой, ты целую философию развил. Концепцию неославянофильства. Эко тебя вдохновил державный столб!
— Пожалуй, старина, — в задумчивости отвечал он. — А насчет славянофильства ты прав. И знаешь ли почему? В прошлом веке идеи русских славянофилов, к сожалению, не осуществились. Но ведь историческая закономерность в том, что неосуществленное обязательно осуществится в новые времена. А это великая идея