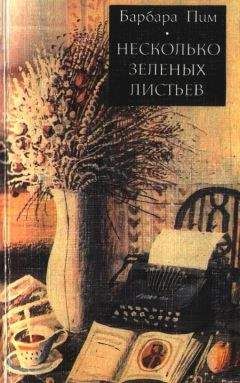— Школьники в интернате живут, — рассказывала Марина, — Им, конечно, удобно там — и кормят и одевают… Но дети отвыкают от родителей, забывают язык. А хуже всего, что и родители отвыкают от собственных детей. Взрослым некого стесняться, когда они напиваются, безобразничают, дерутся…
Мы зашли в сельский клуб, ветхий латаный-перелатаный домишко, снаружи густо облепленный наглядной агитацией. В небольшом зальце стояло несколько рядов полусломанных стульев, покосившийся сценический помост наполовину закрывал ярко-зеленый бархатный занавес.
В клубе было чертовски холодно, как, впрочем, и в комнатке, где размещалась сельская библиотека. Молоденькая девчушка, выпускница Биробиджанского института культуры, показала мне стеллажи.
— А где у вас книги на эскимосском языке?
Девушка смутилась.
— У нас нет ни одной…
— Они сохранились только у меня да еще у некоторых наших учителей, — сказала Марина, — Как пришел указ о сокращении обучения на родном языке, директор школы сжег почти все эскимосские книги из школьной библиотеки.
— Как сжег? — с недоверием спросил я.
— Вот так и сжег, — грустно ответила Марина. — Мы уж упрашивали отдать книги хотя бы по домам, а он все одно твердил: «ускоренное движение вперед, новая историческая общность…» Даже Гитлером его называли, но он только усмехался…
Ужинали у заведующего отделением совхоза. Он жил в так называемом доме специалистов, двухэтажном деревянном здании, где жильцы занимали нормальные двух-, трехкомнатные квартиры с просторными прихожими, кухнями и даже теплыми туалетами, где, правда, стояли обыкновенные ведра и горшки.
Я молчал. Федор Федотович, похоже, никогда не терявший своего веселого настроения, усердно подливал всем коньяк и провозглашал тосты за процветание Чукотки, самой отдаленной окраины Советской страны, за чукчей и эскимосов, сделавших гигантский прыжок из первобытности в социализм. Немало лестных слов было произнесено и в мои адрес.
— Вот я был в отпуску, — громко разглагольствовал Федор Федотович, — встретил в доме отдыха в Гаграх своего коллегу, секретаря райкома из Пензенской области. Поговорили о том о сем, выпили, конечно, грузинской чачи, и пошел он: замучили его жалобы местного населения. Жалуются на своих начальников, на руководителей, на торговлю, на снабжение, на нехватку жилья, плохие машины… Прямо, говорит, некуда деться от жалоб. А когда я ему сказал, что у нас в районе если и есть жалобы, то только от приезжих, а местное население по своей сознательности этим вообще не занимается, так он едва поверил мне!
Федор Федотович остался ночевать у заведующего отделением совхоза, а мы с Александром Венедиктовичем отправились в наш изолятор.
Ночь была тихая, какая-то необычно мягкая. В небе мерцали огромные звезды. Ярко светилась Песчаная река со всеми ее обитателями на размытых берегах.
Мы шли молча.
Так же молча разделись при свете стеариновой свечи, предусмотрительно вставленной в горлышко пустой бутылки из-под шампанского, и улеглись в свои постели.
Поворочавшись, Александр Венедиктович окликнул:
— Не спите?
— Что-то не спится…
— Я вас понимаю, — произнес он после небольшой паузы.
Однако, уловив, видимо, некоторый скепсис, в моем ответном молчании, Александр Венедиктович сказал:
— Вы послушайте меня, и тогда, может быть, поверите, почему я вас понимаю.
После окончания Костромского животноводческого техникума Александр Венедиктович Мухин получил направление в Магаданскую область. Это было на рубеже сороковых и пятидесятых годов. Представление о том крае, куда приходилось ехать через всю страну, было самым смутным и неопределенным. Прежде всего вставал вопрос: что там делать ребятам, которые специализировались на крупном рогатом скоте? Представитель Министерства сельского хозяйства сказал коротко:
— У северного оленя рога поболее чем у наших коров!
— Но мы оленя не изучали, — попытался возразить Мухин.
— На месте изучите!
Ребята, в общем-то, особенно и не сопротивлялись, ведь предстояла поездка в удивительные, загадочные, экзотические места, можно сказать, на самый край света, аж на другую сторону карты полушарий. Кроме того, выдавались немалые по тем временам подъемные, из которых кое-что даже можно было оставить домашним. А что касается оленя, то, может, действительно его сподручнее изучать на месте?..
Незнание условий будущей работы, климатических особенностей привело к тому, что ни Саша, ни его товарищи даже не подумали о том, чтобы запастись теплой одеждой. Правда, поначалу значительная часть пути пролегала по относительно теплым местам: по долгой, казавшейся нескончаемой железной дороге, по южной Сибири, дальневосточному краю…
Владивосток, город, стоящий, во всяком случае, на школьной географической карте на самом краю страны, поранил многолюдностью, большими каменными домами, живописными улицами, сбегающими с окрестных сопок к заполненной самыми разными судами — от простых грузовых пароходов до военных крейсеров — бухте с романтическим названием Золотой Рог.
В ресторанах (ребята заглядывали туда только в ярко освещенные окна) шумно пировали моряки, рыбаки, золотоискатели с Колымы, старатели с чукотских приисков. Это был совсем другой, не похожий даже на книжный, мир приключений, свободы, свободы не только поведения, но и манящей, зовущей вон туда, за зеленые берега Тихого океана.
Пароход отходил от пирса перед полуночью, и Саша Мухин, бросив на отведенную для него койку в общей каюте свой фанерный чемоданчик, простоял несколько часов на палубе, наблюдая, как медленно отходил корабль от пирса, медленно, с помощью портового буксира, разворачивался и удалялся от берега, оставляя за кормой разноцветье огней, земные голоса и земной шум машин, перезвон трамваев, людской неразборчивый говор.
По мере того как стихали, удаляясь, все эти звуки, отчетливее и громче становились голоса и гул мощной судовой машины, толкающей огромный корабль по океанской поверхности, усиливалось чувство отрешенности, оторванности от земли.
И вдруг сердце пронзила резкая боль — боль расставания с землей, с материком — когда еще доведется побывать здесь, когда доведется вновь увидеть и родные места, там далеко, далеко на земле Костромы?
Позади остались редкие огни маяка, и Саша Мухин вернулся в каюту; он еще долго ворочался на узкой корабельной койке с предохранительным бортиком, пока не забылся беспокойным, тревожным сном.
На следующее утро, глядя, как его товарищи мучились от новой для них морской болезни, Саша почувствовал некоторое превосходство над ними. Его самого, выросшего на берегу мелкой речушки, которую вброд переходил петух, морская болезнь не брала.
Большую часть времени молодой зоотехник проводил на палубе, с затаенным восторгом наблюдая за жизнью невероятного, невообразимого горько-соленого простора. То вдруг вспыхивал невдалеке китовый фонтан, то с шумом и криком проносилась какая-то птичья стая, то величественно проплывали моржи…
Показались Курильские острова. Остроконечные, словно отделенные от воды полоской тумана, они будто были нарисованы уверенной рукой талантливого художника.
Обогнув южную оконечность Камчатки, пароход вышел на простор Берингова моря. Заметно похолодало, и Саше Мухину все чаще приходилось спускаться в каюту, чтобы согреться. По интересно, что морской живности прибавилось, и часто пароход шел на виду нескольких китовых стад, а белухи проплывали совсем рядом с бортом, показывая свои глянцевые, словно сделанные из какой-то прочной и эластичной пластмассы, белые спины.
В Анадыре, столице Чукотского округа, молодые зоотехники получили новое распределение: кто-то остался в окружном центре, а Саше предстояло плыть дальше на этом же пароходе в какой-то неведомый ему Чаунский район, в поселок Певек.
Пока добрались до Певека, пароход останавливался в бухте Преображения, в селе Уэлен, почти на мысе Дежнева. Саша по-прежнему проводил время на палубе и даже увидел в Беринговом проливе берега Америки! Они синели справа по борту, загадочные и чуточку пугающие: холодная война была в самом разгаре. В проливе между двумя островами — Большой и Малый Диомид — чудился железный занавес.
Саша Мухин за эти четыре недели плавания стал на корабле своим и мог беспрепятственно подниматься в святая святых — на ходовой мостик. Отсюда, в широкий иллюминатор он впервые увидел льды. Сначала — отдельные плавающие льдины, в которых, казалось, не было ничего зловещего, скорее они даже как бы украшали однообразную поверхность океана. Причудливо источенные буйной фантазией морских струн, они напоминали замки, парусные фрегаты, подводные лодки, роскошные лайнеры…

![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)