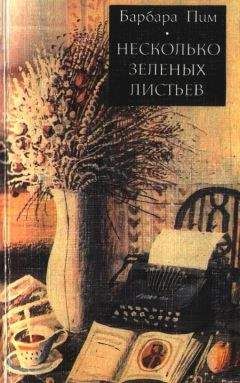Но моряки тотчас насторожились, не разделяя Сашиных восторгов.
Первое столкновение с ледовыми полями Саша почувствовал ночью, когда резкий толчок едва не скинул его с узкой койки.
Торопливо одевшись, Саша вышел на палубу, и здесь вместо восторга он вдруг ощутил страх: ледовые поля с редкими пространствами открытой воды простирались повсюду.
И нее же в Певек, столицу Чаунского района, пришли в назначенное время, даже не прибегнув к помощи ледокола. Поселок стоял на галечном берегу, вплотную придвинувшись к океану, точнее к Чаунской губе. Выйдя на берег и спросив дорогу в райисполком, Саша Мухин с удивлением увидел воду и по другую сторону города. Кругом вода… А где же тундра?
Мимо проносились грузовые автомобили, поднимая серую пыль, от которой першило в горле.
В шумной толчее райисполкомовских коридоров Саша нашел нужный отдел, подал свои бумаги человеку неопределенного возраста, и пока тот читал направление, вдруг почувствовал, что качка продолжается… Качался дощатый крашеный пол кабинета, и в ногах ощущалась какая-то странная слабость.
— Садитесь, — мягко произнес человек и показал на стул.
Но сидеть долго не пришлось. Изучив бумаги, быть может, более тщательно, чем они того заслуживали, человек поднял глаза на Мухина, пытливо всмотрелся в него и сказал:
— Вот что, Александр Венедиктович! Назначаю вас старшим зоотехником совхоза «Вперед»! Через два часа в хозяйство, в тундру то есть. Здесь совхозный вездеход. Другой такой оказии долго не будет. Поэтому вот вам двадцать пять рублей. Отдадите потом. Все формальности, приказ — тоже потом. Идите в столовую, хорошенько поешьте и оттуда обратно сюда. Вездеход пойдет в три часа.
Так, даже не осмотревшись в районном центре, Саша Мухин отправился в тундру.
В кузове вездехода сидели чукчи. Все они были сильно навеселе и принялись щедро угощать Сашу.
— Ты теперь наш начальник, — сказал один из них, имя которого он узнал позже — Иван Тавро. — Мы тебя будем любить и уважать. А для начала — уважь нас.
Когда позади скрылись городские строения и вездеход вышел на тундровый простор, пиршество продолжили на берегу студеного тундрового ручейка, в котором охлаждали вод ну. Стояли, пока но прикончили изрядный запас.
Такой была первая встреча Саши Мухина с чукчами, о которых он читал только в популярном в то время романе Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы». Потрепанный экземпляр книги нашелся в судовой библиотеке, и Саша в два дня проглотил удивительную историю чукотского кулака — Алитета. Попутно он старался запомнить некоторые обычаи и характерные черты народа, среди которого ему предстояло работать. Но он даже и в мыслях не предполагал, как стремителен будет его путь в тундру.
Он думал об этом, сидя на берегу ручья, вслушиваясь в незнакомые звуки чукотской речи.
Но ведь он уже считается на работе! Старший зоотехник! Впереди зима, а он в прохудившихся ботинках в легком пальтишке. Единственная теплая вещь — свитер, связанный в подарок старшей сестренкой…
Только теперь Мухин понял всю сложность своего положения.
Сначала спутники по вездеходу показались ему все на одно лицо, не сразу он стал различать их и по внешнему виду и по возрасту. Одеты они были кто во что горазд. Иван Тавро, старший пастух, носил ладную летнюю кухлянку, а остальная часть его экипировки состояла из обыкновенных шерстяных брюк и резиновых сапог. На голове старшего пастуха красовалась, очевидно, только что купленная мохнатая кепка.
В крохотные окошки вездехода трудно было что-нибудь разглядеть, и потому Саше доводилось любоваться окрестностями лишь во время остановок на чаепитие. Выпитое вино довольно скоро улетучилось, ребята протрезвели, хотя водка в запасе еще была, но, видно, она предназначалась для тех, кто оставался в тундре. Каждый раз, выходя из грохочущего вездехода, Саша поражался мягкости и беспредельности открывающегося перед ним простора.
Кое-где тундра уже пожелтела, но еще цвела пышно и пестро.
Птичьи стаи прочерчивали небо от края до края. Удивительно: птенцы расхаживали прямо по открытой поляне, по берегам нескончаемых озер и речушек. Чего-чего, а воды здесь хватало, и порой трудно было понять, как водитель находит направление в этой запутанной мозаике воды и земной зеленой тверди.
По часам время приближалось к десяти вечера, но солнце не садилось, свет не убывал. Полный полярный день с незаходящим солнцем кончился, но было еще довольно светло, и можно двигаться дальше.
Наконец, в очередной раз перевалив еще через одну речку, о которой Мухин догадался по скрежету гусениц по гальке, вездеход пополз вверх по пологому склону и остановился. Водитель выключил мотор, и вместо тишины Мухин на этот раз услышал человеческие голоса — женские и даже детские. Раздался и собачий лай.
Да, это было стойбище. Три яранги, покрытые комбинированной летней крышей из парусины и стриженой оленьей замши, стояли на высоком сухом месте, над бурным ручьем.
Ноги затекли, и Мухин еще не совсем уверенно чувствовал себя на твердой земле. Первое впечатление его ошеломило: на него смотрела древняя старуха с седыми всклокоченными волосами, в которых светились белые оленьи шерстинки. Она улыбалась во весь рот, показывая остатки желтых, прокуренных зубов, и весело смотрела на Сашу.
— Амын етти! — громко произнесла она и выпростала из недр мешковатого мехового балахона жилистую руку, удивившую силой пожатия.
— Здравствуйте, — нерешительно отозвался Мухин.
— Трасти! Трасти! — весело повторила старуха.
Знакомая по рисункам и кинокартинам сказочная баба-яга по сравнению с этой тундровой ведьмой показалась бы писаной красавицей.
— Саша, — обратился к Мухину Иван Тавро, — иди к маме в ярангу. Она позаботится о тебе. А мы едем дальше, в стадо. Завтра вернемся… Будь здоров!
Выгрузили фанерный чемодан Мухина и умчались.
Проводив взглядом ныряющий меж кочек и холмов вездеход, старуха взяла Мухина за руку и повела за собой.
С яркого света в яранге трудно было что-нибудь разглядеть. К тому же в глаза лез дым от тлеющего слева от входа костра. Старуха провела гостя, не выпуская его руки, вглубь, где уже различалось нечто вроде небольшой меховой коробки с поднятой передней стенкой, и посадила на бревно, служащее изголовьем. Она все старалась заглянуть в лицо, что-то беспрерывно говорила, но тону ободряющее, успокаивающее.
Усадив Мухина, отошла на минуту и тотчас вернулась с пышной буханкой белого хлеба и килограммовым куском янтарного сливочного масла в эмалированной миске. Нож для хлеба и масла поразил величиной и остротой лезвия. Потом появилась кружка невероятно крепко заваренного чая и банка сгущенки.
— Кусай, кусай, — стараясь говорить по-русски, с улыбкой то и дело повторяла старуха. Она уже не казалась такой страшной. — Хорошо, хлеб, масло. Кусай, кусай…
И Саша Мухин принялся «кусать». Хлеб, чуть подсохший, да еще с маслом, со сгущенным молоком был необыкновенно вкусным.
Но это оказалось только началом. Старуха шуровала у костра, который, разгораясь, меньше дымил, а возле мехового полога стало и совсем хорошо. Глаза привыкли, да и света, льющегося с вершины конуса, где сходились закопченные жерди, вполне хватало.
Отодвинув миску с маслом, старуха поставила большое деревянное блюдо с вареным оленьим мясом. Соблазнительный аромат, несмотря на съеденную половину буханки, заставил приняться за горячее.
Эта удивительная трапеза продолжалась долго, потому как старая женщина подкладывала и подкладывала ему куски один аппетитнее другого.
Еда закончилась тем, что Саша, сраженный неумолимой сонливостью, рухнул в полог на разостланные оленьи шкуры и уснул мертвым сном.
Так началась его жизнь в стойбище.
Саша быстро привык спать в пологе. Старая Вээмнэу, с которой он сдружился на всю жизнь, сшила ему удобную тундровую одежду, сначала летне-осеннюю, а потом зимнюю.
Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы.
На следующее лето Сашу Мухина уже нельзя было узнать: он возмужал, загорел несмываемым, никогда не сходящим тундровым загаром, заговорил по-чукотски. Жил он там же, в яранге старой Вээмнэу, которая называла его сыном и относилась к нему как к младшему, самому любимому ребенку.
— Три года я безвыездно прожил в чукотской тундре, в яранге, — рассказывал Мухин, — Как говорили потом районные власти, «очукотился» с ног до головы… Но не это главное. Главное — я стал глубже понимать этих людей, их нужды, их мечты, их представления о мире. Относились ко мне с такой бережностью, с таким уважением, что мне порой хотелось плакать: за что?
Иван Тавро как-то сказал мне:
— Мы полюбили тебя за то, что ты по-настоящему уважаешь нас. Ты тот самый русский, который за дружбу народов не на трибуне, не на лозунге, а в жизни… Ты знаешь наш язык, знаешь оленеводство, Знаешь, как жить в яранге. Ты не отворачиваешься от грязи, которой у нас еще хватает, не морщишь от нее носа… В общем, ты наш, и мы тебя за это любим…

![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)