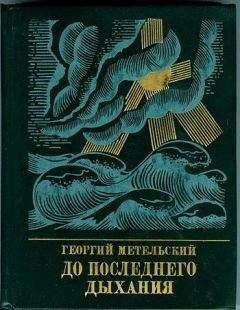дров, — протянул Клищенко. — Насчет стекла я записку дам. Пусть Наташа к Петру Ивановичу на склад сходит. А пока хоть ставни на ночь закрой. Мало чего этому дураку придет в пьяную голову!
…Три дня Игнат жил у Покладчихи, пьянствовал, вечерами ходил с дружками по селу, горланил песни, но в драку не лез, не зарывался и ни к кому не приставал.
А на четвертую ночь в двери к Глаше неистово забарабанила школьная сторожиха бабка Степанида.
— Встань, Глаша! Чуешь, встань!.. Василия Дмитриевича нашего ножом в спину…
Степановна обомлела, зажала рукой рот, чтобы не закричать в голос. Одеревеневшие руки никак не попадали в рукава.
— Ты куда? — спросонок, в пустой след спросил дед Панкрат. — Чи не Красавка телится?
Рассвет уже обозначился на чистом небе белесой, длинной полосой, и на фоне этого меняющего цвет и ширящегося пятна четко выделялись гребни еще охваченных темнотой крыш. Быстро светало. Солнцу не было никакого дела до того, что, может быть, убили учителя физики Василия Дмитрича, что бежит онемевшая от горя Глаша… Оно вставало, выползало из-за горизонта, подсвечивая своим огненным, расплавленным краем верхушки верб и телевизионные антенны, примостившиеся на высоченных, тонких шестах. Когда Глаша подбежала к школе, свет из обращенных к востоку окон резко ударил ей в глаза.
Возле знакомого домика стояла карета скорой помощи. Не густо толпился народ, прохаживался милиционер, а на крылечке, особняком, заглядывали в пустоту коридора Анатолий Иванович и Клищенко.
Завидев бегущую Степановну, люди переглянулись, зашептались между собой и дали ей дорогу, расступились.
— Нельзя туда, Глаша… — остановил ее Федор Агеевич.
— Живой? — Степановна выдохнула это слово и зашаталась.
— Без памяти, — шепотом ответил Клищенко. — Игната не видела?
Глаша не сразу поняла, что у нее спрашивают.
— Чего? Не… не бачила…
— Не найдут нигде.
— Думаете, он? — Глаша болезненно поморщилась.
— Точных улик пока нету. Однако сама знаешь…
— Вот тут, на крыльце его, Василия Дмитрича, — сказал председатель. — Ох, и беда ж! Следствие, само собой, начнется, вызовы в район, в прокуратуру… Хлопот не оберешься.
— Да разве в этом дело, Анатолий Иванович! — с укором сказал парторг.
— Да это я так, к слову…
— Из-за меня, непутевой, все это…
— Тише… Несут, кажется.
Высокий больничный доктор в коротеньком, не по росту, халате и шапочке распахнул дверь дома, чтобы пропустить санитара и сестру. Глаша зажмурилась, потом раскрыла глаза и подалась всем телом вперед. Вася лежал на носилках, без кровинки в лице, неподвижный, с заострившимися чертами.
— Ну как, Петр Андреевич? — Клищенко зашагал рядом с доктором.
Доктор молчал.
— Плохо, значит?
— Очень большая потеря крови, — уклончиво ответил доктор. — Будем бороться…
Василий Дмитрич умер в сельской больнице на следующий день утром.
Перед смертью он очнулся и увидел в тумане склонившегося над ним врача, Глашу («Кажется, она плачет? Зачем?») и незнакомого молодого человека в очках.
— Разрешите? — обратился к доктору незнакомый человек.
Петр Андреевич молча кивнул головой.
Человек в очках наклонился к уху Василия Дмитрича.
— Один вопрос. — Его голос в наполненной тишиной палате прозвучал, как выстрел. — Кто вас ударил ножом?
Василий Дмитрич скорее почувствовал, чем увидел, как вздрогнула, ссутулилась Глаша.
— Я… не узнал… этого… человека… — чуть слышно ответил Василий Дмитрич.
Минул месяц. Все эти тридцать дней жизнь в «Ленинском призыве» текла своим чередом, будто и не лежал на сельском кладбище под березкой учитель физики, добрый человек Василий Дмитрич, будто усатый каменщик Павлович не выбил на надгробной плите две даты: 1926–1963.
Теперь, когда на Степановну обрушилось сразу столько бед, ее уже не осуждали, не судили, — ее жалели. Жалость была всеобщей и всепрощающей. Раньше из-за своего строптивого характера Глаша, наверное, обозлилась бы на тех, что ее жалел, теперь же она их просто не замечала. Люди приходили к ней домой, начинали тараторить, молоть всякую чепуху, пытаясь развеселить хозяйку. Другие, напротив, сидели молча, вздыхали и охали. Глаша оставалась равнодушной.
Пришла как-то и Покладчиха, напуганная тем, что именно из ее хаты сбежал, как в воду канул, Игнат.
— Ты уж прости меня, грешницу, Агафья Степановна… Бес попутал.
— Да что мне прощать тебя, глупую.
Степановна не предложила гостье ни пройти, ни сесть, так и стояла та в дверях, смиренно опустив глаза долу.
— Истину глаголешь, Агафья Степановна — совсем дурная я… Дочка Ксения науськивала. Заявления на тебя писать заставляла.
…Эти заявления лежали у парторга в сейфе. Возможно, Клищенко еще бы долго не вспоминал о них, если бы сегодня утром не позвонили из райкома.
— Послушайте, Федор Агеевич! — услышал Клищенко голос первого секретаря. — Что у вас там с дояркой Сахновой? Давно лежат у меня две кляузы на нее. «Морально-бытовое разложение» и так далее. До сих пор я знал Сахнову, как отличную работницу, коммунистку, и вот на тебе! Разберитесь, пожалуйста.
И секретарь положил трубку.
Федор Агеевич достал из несгораемого шкафа два тетрадочных листа, закурил и пошел к председателю.
— Вот полюбуйся. Давно хотел показать, да запамятовал.
— Ну, ну… — Анатолий Иванович вынул из футляра очки. Читал он медленно, вдумываясь в каждое слово.
— Что ж ты меня раньше не ознакомил, Федор Агеевич? — В голосе председателя слышалась явная досада.
— Говорю, забыл.
— Как это забыл? Ведь тут, — Анатолий Иванович похлопал по написанному кончиками пальцев, — черным по белому — «копия райкому партии». А ты забыл… Что делать будем?
— Не догадываешься? — Клищенко зажег спичку и поднес ее к бумажке.
— Ты с ума сошел! — испугался председатель. — Ведь документ! Бумага!
— Того и палю, что бумага. Ежели б железо, под паровой молот пришлось бы подкладывать. А так одна спичка — и нет кляузы. Зола!
— Думаешь, сплетня?
Клищенко не ответил. Он случайно посмотрел в окошко и увидел Глашу.
— Легка на помин… Куда это она?
— Кто? — Председатель тоже взглянул в окно. — А… Степановна… Ко мне. Вызывал на одиннадцать. — Анатолий Иванович скосил глаза на стенные часы. — Без трех минут. Точная женщина!.. — Он обернулся к парторгу. — Хочу еще разок насчет фермы Сахнову проагитировать. Заместо Володьки. А то ведь беда получается, провал!.. Который раз, Агеевич, твержу тебе «Провал!», а ты хоть бы что… Может, без экзамена ее, как передовую доярку района, допустят? Попрактикуется в «Волне революции», и все… Не обязательно ей этот закон Ома знать… Как думаешь?
Клищенко спрятал улыбку. У него вообще была способность улыбаться как бы про себя, незаметно. Услышав Глашины шаги, он поднялся и раскрыл дверь.
— Заходи, Агафья Степановна… Как раз о тебе говорили.
— Плохое ли? Хорошее? — Глаша поздоровалась.
— Ну кто же про такую точную женщину плохое скажет, Агафья Степановна? — с шутливым укором спросил