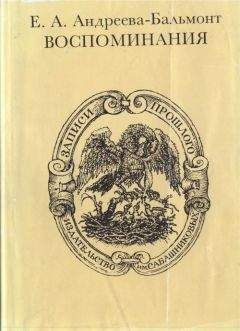Третья личина этого алчного чудовища — большое, крепкое, неуклюжее лицо Амфилова, генерала от спекуляции, не брезгающего ничем, оно наполняло собой все кафе, блестя и торжествуя.
Казалось, эти люди, не замечающие друг друга, занятые своим делом, перемигиваются и подают одним им понятные знаки, как околпачивать всех и высасывать последнюю копейку.
От их лиц делалось душно, хотелось встать, крикнуть, сказать что-то злое и дерзкое. Вместо этого я смотрел на Амфилова преданными глазами, бессознательно благодаря за крохи уюта и благополучия, которые его ловкий комбинаторский ум сошвыривал нам со своей белой накрахмаленной скатерти.
Совещание закончилось, Амфилов ушел. К нам подошел Долидзе, лениво опустился на стул и, посидев немного, как бы между делом заговорил:
— О чем хотел с вами покалякать, друзья… Хорошо бы организовать «живой журнал». Теперь из-за бумажного кризиса у нас нет подходящих журналов. «Живой журнал» будет иметь успех. Хотите, обмозгуем этот вопрос… Только, — он посмотрел на свои массивные золотые часы, — мне сейчас некогда, а вот завтра часам к семи соберемся у меня…
— Очень хорошо, — воскликнул Есенин, — я приветствую эту идею! У вас на плечах хорошая голова, Долидзе.
— Только редактировать журнал будем мы, — заявил Мариенгоф, — никого постороннего, вот наши условия. Сережа, Рюрик, верно?
— Редактировать буду я, — выпалил вдруг Есенин.
— Подождите, — мягко сказал Долидзе, блестя глазами, похожими на чернослив, — сначала надо его организовать, а потом уже драться за редакторский портфель.
— Ладно, — сказал Есенин, охладевая к идее, которую только что принял с восторгом, — завтра поговорим, а сейчас… хорошо бы распить бутылочку. Эх, жисть! Не жисть, а жестянка!
— Вы пейте, а я пойду, — увильнул Долидзе. Лавируя между столиками, прошел через все кафе, высокий, сутулый, апатичный, посыпавший себя фальшивым пеплом безразличия. Большое зеркало в передней отразило его фигуру, черную и скучную, как катафалк.
— О господи, — вздохнул Есенин, — вот жулье.
— И мы с ними якшаемся, — произнес я тоном кающегося грешника.
Мариенгоф засмеялся.
— Я думаю, нас никто не упрекнет, что мы предпочли иметь дело с жульем, а не с дураками.
Широкое окно, казалось, создано для того, чтобы наблюдать, как с крыш, сверкая на солнце, падают прозрачные, похожие на застекленевший воздух ледяные сосульки… Внизу чернела освобождающаяся от снежного ковра земля. Солнце освещало железные трубы, они выглядели выкрашенными свежей сочной краской. Вода, лед и солнце способствовали тысяче самых разнообразных и волнующих звуков: паденье капель и снежных комьев с крыш, журчанье, шум, таяние, легкое надламывание льдинок, потрескиванье железа. Казалось, что стены шуршат, шушукаются и слегка покачиваются, точно у них кружится голова от слишком прозрачного, ясного, нежного весеннего воздуха.
Я стоял на площадке широкой лестницы и глядел сквозь громадные зеркальные стекла итальянского окна на весеннее таяние. Рядом, погруженный в свои думы, спиной к окну застыл Мариенгоф.
— Что же они не идут? — ворчал он. — Скоро уже час.
Я взглянул на часы.
— Сейчас без десяти. Мы пришли рано.
— Давай спустимся вниз. Я не намерен стоять здесь.
Нагибаюсь над перилами.
— Подожди, вот, кажется, они…
По лестнице поднимался Есенин в сопровождении Ройзмана.
— Что так поздно? — накинулся на них Мариенгоф.
— Во-первых, еще не время, мы условились в час, — ответил Есенин, — а во-вторых, — он улыбнулся, показывая глазами на Мотю, — никак не могли для него подходящей косоворотки найти. В последнюю минуту выручил Вампирчик. У него целый гардероб демократических одеяний.
Поднялись на третий этаж. Впереди — Есенин. Дойдя до дверей, на которых написано «секретарь», он приоткрыл дверь.
— Товарищ, можно? — спросил он. — Я звонил насчет приема к… товарищу Троцкому…
— Он на заседании, будет минут через двадцать.
— Хорошо, мы подождем, — сказал Есенин, закрывая дверь.
Все подошли к окну.
— Как! — воскликнул Толя. — Ты говорил, что звонил самому Льву Давидовичу.
— Ну не все ли равно, — махнул рукой Есенин, — это одно и то же…
— Подождите, ребята, — вмешался Ройзман, — еще раз прорепетируем, чтобы не путать. Сначала будет говорить Есенин — общие, так сказать, основы дела, затем я коснусь деталей. Бумажка у тебя? — обратился он ко мне.
— Да.
— Давай ее мне, подсуну в подходящий момент, он подпишет.
— Главное, не забывайте, — прошептал Толик, — произносить фразы про «отдельные кабинеты» ни в коем случае нельзя.
— Что ты нас учишь? — огрызнулся Ройзман. — Знаем не хуже тебя.
— Я напомнил… на всякий случай…
— Тсс, вот, кажется, он, — прошептал Сергей, кидаясь к поднимавшемуся по лестнице плотному человеку в пиджаке, из-под которого выглядывала желтая чесучовая рубаха.
— Здравствуйте, товарищ Троцкий, — заулыбался Есенин.
Лев Давидович посмотрел равнодушными глазами и, слегка кивнув, прошел мимо. Сергей почесал затылок.
— Вот черт, не узнал, а ведь вместе пьянствовали в прошлом году…
— Не надо было подскакивать, — деловито вставил Ройзман.
— Ну, теперь все равно идем, он нас примет.
Под водительством Есенина мы вошли в секретарскую.
Молодой человек в черной рубахе, затянутый тонким пояском, открывая дубовую дверь, пропустил нас в кабинет.
— Только не слишком задерживайтесь, товарищи, — бросил он вдогонку.
Хозяин кабинета, известный в рядах партии как один из организаторов Красной армии, получивший мандат из рук Владимира Ильича Ленина, сидел у письменного стола, положив локти на столешницу. Одним глазом смотрел на лежавшую перед ним коричневую папку, другим — на вошедших поэтов.
Первым выступил Есенин:
— Здравствуйте, товарищ Троцкий, вы меня не узнаете? Я Есенин, а это мои товарищи, поэты. Вы, конечно, слышали их имена: Рюрик Ивнев, Анатолий Мариенгоф, Матвей Ройзман.
— Садитесь, — сухо произнес Лев Давидович.
— Товарищ Троцкий, — продолжал Есенин, — мы имеем маленькое издательство, выпускаем журнал, ведем культурную работу, для издания альманахов и сборников нужны средства, мы открыли кафе.
— Кафе? — переспросил Троцкий, занятый, очевидно, своими мыслями.
— Да, кафе-клуб, где наши нуждающиеся товарищи-поэты получают бесплатные обеды.
— При клубе организованы библиотека, шахматный и марксистский кружки, — выпалил Ройзман.
Мариенгоф наступил ему на ногу и тихо прошептал: «Не лезь».
— И вот, — распевал Есенин, — этой большой культурной работе грозит разрушение.
— Я не совсем вас понимаю, — устало произнес Троцкий, — при чем тут я, и потом… нельзя ли короче… у меня тут дела… заседание.
— Товарищ Троцкий, — взмолился Есенин, — мы понимаем, вы человек дела, и если решились посягнуть на ваше время, то…
— Дело в том, — перебил его Ройзман, — наше кафе помещается в двух этажах, нижний этаж захлопнули.
— Захлопнули?
— Ну да, закрыли.
— Ничего не понимаю. Кто закрыл?
— Адмотдел Моссовета.
— Как это можно — один этаж закрыть, а другой не закрыть?
— Вот и мы не понимаем… Мы пришли к вам… у нас приготовлено письмо… товарищ Троцкий, подпишите его… тогда откроют.
Ройзман вытащил из кармана заранее заготовленную бумагу и выложил перед изумленным партийцем. Лев Давидович прочел вслух:
— «В Адмотдел Моссовета. Прошу оказать содействие правлению «Ассоциации поэтов, художников и музыкантов» в деле полного функционирования их клуба "Парнас"»… Что значит «полного функционирования»? А потом, товарищи, я не имею никакого отношения к Адмотделу…
— Но вас там так уважают, — сказал Ройзман.
— Товарищ Троцкий, выручите нас, — взмолился Есенин.
Мы с Мариенгофом сидели молча, не могли выдавить из себя ни слова…
— Я не могу ничего предписывать Адмотделу и не могу подписывать таких бумаг. Самое большое, что я могу сделать, — это позвонить.
Он взял телефонную трубку. Есенин переглянулся с Ройзманом, неистово крутившим прядь волос у виска.
— Кабинет начальника Адмотдела… Да… Спасибо… Саша, ты? Говорит Троцкий… Здорово… Послушай, в чем дело? Тут пришли поэты… из «Парнаса»… клуб-кафе… Их прихлопнули. Что? Не прихлопывали? Закрыли только отдельные кабинеты? Очаг проституции? Понимаю. Овечками. Ха-ха… Ну, будь здоров!
— Все кончено, — шепнул Есенин Мариенгофу.
Троцкий молча смотрел на Есенина и Ройзмана.
Мы с Мариенгофом отвели глаза в сторону.
— Ну, — вздохнул Есенин, — мы пойдем.
— Не задерживаю, — буркнул Троцкий, и нельзя было разобрать, смеется он или сердится.