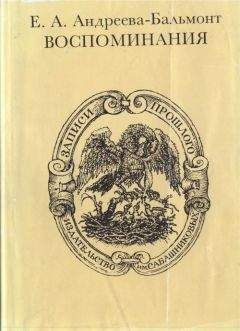Мы с Мариенгофом сидели молча, не могли выдавить из себя ни слова…
— Я не могу ничего предписывать Адмотделу и не могу подписывать таких бумаг. Самое большое, что я могу сделать, — это позвонить.
Он взял телефонную трубку. Есенин переглянулся с Ройзманом, неистово крутившим прядь волос у виска.
— Кабинет начальника Адмотдела… Да… Спасибо… Саша, ты? Говорит Троцкий… Здорово… Послушай, в чем дело? Тут пришли поэты… из «Парнаса»… клуб-кафе… Их прихлопнули. Что? Не прихлопывали? Закрыли только отдельные кабинеты? Очаг проституции? Понимаю. Овечками. Ха-ха… Ну, будь здоров!
— Все кончено, — шепнул Есенин Мариенгофу.
Троцкий молча смотрел на Есенина и Ройзмана.
Мы с Мариенгофом отвели глаза в сторону.
— Ну, — вздохнул Есенин, — мы пойдем.
— Не задерживаю, — буркнул Троцкий, и нельзя было разобрать, смеется он или сердится.
Есенин вышел первым. За ним, точно сконфуженные школьники, опустив глаза, шествовали Мариенгоф, я и Ройзман, который все крутил прядь волос у виска и думал, к кому бы еще пойти… Жаль, что Соня не в Москве. Спасти положение может только женщина.
— Удивительно, — сказал Есенин, когда все вышли на улицу, — кто бы мог подумать, что он забудет, как мы проводили время. Можно сказать, друг закадычный, вместе пили, кутили — и вдруг… такой пассаж…
— Я больше не пойду… только срамиться… Это Вампир выдумал… все эти паломничества, — сердился Мариенгоф.
— Знаете что, — воскликнул Ройзман, — надо дело вести по-другому. На кабинетах поставим крест, так и заявим Вампиру. Если он будет артачиться, вышвырнем его и найдем другого буфетчика.
— Правда, — согласился я, — очень уж он обнаглел…
Мы шли по широкому тротуару. Пахло мокрыми камнями, землей, талым снегом. Трескались льдинки. Солнце играло, как школьник, на окнах заколоченных магазинов, как бы заглядывая с любопытством в щели, желая узнать, что там творится, в темноте, где когда-то сверкали шелковые ленты, чулки, кожа, ткани и груды яств и мяса.
Я разговаривал с Долидзе и помимо своей воли прислушивался к разговору двух юношей, стоявших за спиной.
— Читал твою статью. Чисто сделано. Молодцом!
— Я перешел на статейки. И легче, и выгоднее, чем со стихами возиться.
— Я тебе говорил, ты не верил. Но и статейки — пустячное занятие. Я теперь специализируюсь на сценариях, это, брат, дело.
— Для этого надо иметь знакомства.
— За этим дело не станет… Сколько тебе за статьи платят?
— Черт их знает, разметки не было. Я хапнул аванс, теперь отрабатываю.
— Вот остолоп, вот негр!
— Что ты ругаешься?
— Как же не ругаться? Учу тебя, учу, а ты все неуч. Кто же пишет после того, как аванс хапнул?.. Ты даром на них работаешь.
— Что ты мелешь? Как даром? Я же брал аванс…
— Чудак! Аванс не считается. Взял, и ладно. А статейку в другую газету тащи и… деньги на кон.
Мне захотелось обернуться и хлестнуть их плеткой по жирным, циничным, лоснящимся физиономиям.
Долидзе не отставал от этих молодых, подающих надежды журналистов, изливая потоки сладкого восточного красноречия.
— Вы меня понимаете, публика — дура, она все съест, что ни подай, но надо уметь подать, уметь с ней обращаться, заманить, выпотрошить из нее деньги. Эти вечера надоели. Надо что-то другое! Я придумал «живой журнал». Он ничем не отличается от литературного вечера — те же поэты, те же произведения, но публика этого не поймет, как только появится афиша, она начнет сходить с ума… Пусть сходит… Денежки ее — в нашем кармане… Конечно, — спохватился Долидзе, — расходы теперь не те, что в довоенное время: они выросли на тысячу процентов, настоящих дел нельзя делать, все эти вечера едва окупаются… Если я занимаюсь этим делом, то только из любви к искусству, к литературе… Я от этого ничего не имею, каждый раз докладываю из своих денег… Что поделаешь! Без меня не было бы ни Есенина, ни вас, ни Мариенгофа… Ведь это я создал всех… не хвастаюсь. Я очень рад, что помогаю… Это уж натура такая.
— Брось арапа запускать, — раздался голос Есенина. — Знаем мы вас, художественных натур!
— Сережа, — засмеялся я, — ты откуда?
— От Карпович. Подкрепился, а теперь за «живой журнал» возьмусь…
— Что значит — за «живой журнал»? — осторожно спросил Долидзе.
— А то, что не позволю привлекать к этому делу всякую шваль, — запальчиво проговорил Есенин, делаясь вдруг серьезным и показывая глазами на сидевших в дальнем углу нескольких поэтиков, славившихся своей бездарностью.
— Как — не позволю? — обидчиво произнес Федор Ясеевич. — «Живой журнал» — моя идея.
— Идея-то ваша, а осуществление наше, — возразил Есенин.
— Подожди, Сережа, — вмешался я, — надо договориться.
— Чего там договариваться. Я буду главным редактором, и материал, который будет зачитываться, пойдет через мои руки.
— Да, но… — начал я.
— Ты, — перебил меня все более возбуждавшийся Есенин, — природный соглашатель.
— При чем тут соглашательство?
— Ты всегда меж двух стульев усаживаешься. Что-нибудь одно — или меня поддерживай, или против меня борись, я требую определенности.
— Чудак ты, право, зачем мне против тебя бороться?.
— Тогда не спорь и во всем поддерживай.
— Но если ты загибаешь через край?
— Тогда борись!
— Давай говорить о деле. Федор Ясеевич, все в сборе?
— Да, почти все… нет Мариенгофа и Ройзмана.
— Мариенгофа не будет, — сердито заявил Есенин, — на нем ставьте крест.
— Крест? На Мариенгофе?
— Крест! Многопудовый, каменный.
— Что ты заладил: крест да крест! В чем дело?
— Не понимаешь? Жениться он вздумал, вот что! Третий день его не вижу. Влюблен, обалдел, ему не до стихов. Скоро вместо кашне пеленку нацепит.
— То-то ты такой сердитый. — Я засмеялся.
— Конечно, мне скучно, я привык к нему…
— Товарищи, пора начинать, — засуетился Долидзе.
В дверях показался Ройзман. Лицо его сияло от удовольствия. Подмигивая, делая таинственные непонятные знаки, он подошел к нам и, едва поздоровавшись, затарахтел:
— Новость! Соня приехала. Я ее только что видел. Важнющая, не узнаешь! В партию вступила. Связи у нее громадные… Она спасла на фронте видного большевика. Он теперь, кажется, командарм…
— А нам-то что, — перебил его Есенин. — Нашел чем хвастаться — Сонькой, которая в партии! Если бы я захотел, давно бы уж был там. Меня Луначарский приглашал, спрашивал: почему не вступаете? Вы же наш? Я тогда ответил…
— Подожди, не перебивай, — засуетился Ройзман, — ведь о деле. Соня нам нужна до зарезу! Для тебя, Сережа, она сделает все. Ты должен с ней поговорить насчет кабинетов.
— Каких кабинетов? — не понял Есенин.
— Ты что, с луны свалился? Я говорю насчет «Парнаса».
— Ах, вот ты куда гнешь, — засмеялся Сергей. — Пожалуй, это идея!
— Соня не возьмется за это, — вмешался я.
— Откуда ты знаешь? — накинулся на меня Ройзман. — Ты говорил с ней?
— Я ее не видел, но знаю, что она ответит.
— Ты всегда споришь, — рассердился Ройзман, — лишь бы спорить.
— А черт ее знает, — сказал Сергей, — может быть, действительно не захочет. Теперь у нее психология другая.
— Уж слишком быстро!
— Я знаю случаи, — улыбнулся Сергей, — и не таких метаморфоз.
Раздался звонок Долидзе, который под шумок провел себя в председатели собрания. Поэты выступали по поводу окраски журнала. Говорили вяло и скучно. Больше всего их интересовало, кто будет играть в нем главную роль, и меньше всего — какой характер он будет иметь.
Я рассеянно слушал выступавших. Все стало противно. «Живой журнал». Придумали же название! Живой или мертвый, не все ли равно. Скорей бы кончилось это дурацкое заседание. А впрочем, что меня связывает? Ничего. Встать и уйти. Есенин будет злиться, Ройзман прошипит что-нибудь о недисциплинированности. Бог с ними. Я незаметно проскользнул в переднюю, где караулила шубы не слишком уверенная в поэтах жена Долидзе.
— Вы уходите? — улыбнулась она.
Я посмотрел внимательно. Она напоминала какую-то глупую птицу.
— Нет, — солгал я. — Сейчас вернусь. — И вышел на улицу.
Бывают удивительные дни и особенно вечера, когда не знаешь, весна или зима на дворе. Как будто свежо по-зимнему и снег кругом, а вот подует бог весть откуда взявшийся ветерок — и чувствуешь весеннее головокружение. В такие минуты нельзя думать, как мало, в сущности, весен приходится на долю человека. Первые десять не в счет, вторые проходят незаметно, о них не успеешь и вспомнить, третьи полны событиями, что заслоняют собой раздумья и рассуждения, четвертые десять наполнены щемящей тоской по прошедшему, а пятые и шестые уже рисуются как сумрачные и холодные очертания скалистой и неприглядной земли, на которой если и живешь, не будешь радоваться. Я находился между вторым и третьим десятком весен, воспринимал весенние дуновения ветерка с радостной грустью и с грустной радостью. Мне хотелось чего-то большого и широкого, но я знал, что для того, чтобы добиться этого, надо иметь душу закаленную и мужественную, а моя душа, впечатлительная и нежная, была лишена того, что позволяет людям сжигать прошлое и искать новых путей. Я ненавидел богему и презирал ее, и это помимо моей воли возвышало меня в собственных глазах. Презирая богему, я тем самым становился как бы вне ее, не уходя от нее в то же время. Если бы я порвал с ней окончательно, не с кем было бы себя сравнивать и не над кем возвышаться, и я бессознательно тянулся к ней. Отсюда вытекала раздвоенность, а она рождала неудовлетворенность, которая влекла за собой ложное сознание своего превосходства, которого, в сущности, не было. Мне было грустно. Весенний ветерок углублял это. Создавалось настроение, ценное для поэзии. В такие минуты я обычно писал стихи. Я знал это твердо. А что будет, если я остепенюсь, брошу богему, перестану терзать себя противоречиями? Не станут ли мои стихи тусклыми и неживыми? Какой-то голос говорил, что они будут яркими и свежими, но я сознательно заглушал его.