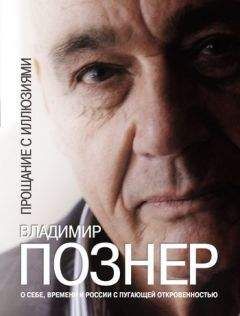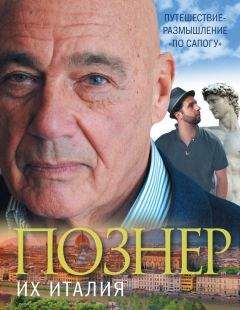— Вы, вероятно, из политических?
— Не в этом дело…
— В Германии, наверно, учились?
— Так или не так… Ничего я не знаю, я все забыл, я говорю, что я — старый глухой дом, в котором никто не живет.
Он вдруг разозлился.
— Вам, товарищ Дондрюков, легко жить. У вас есть хорошая штука — дисциплина.
— Надо не волноваться, а спокойно сидеть и ждать, так же, как сидят солдаты в цепи; может быть, и мы тоже солдаты…
— Э, это… Это какая-то солдатская философия.
— По-моему, так вы скорее походите на философа, вам бы следовало в Кенигсберг.
— Не меня, а… впрочем, всё, знаете, половинчато, мое место вот здесь…
Он ткнул на чугунную дверь.
— …у меня так… Э, черти милые, ведь я же радости ищу и хочу, чтобы, несмотря на позор и кровь, добыли бы мы себе радость. И думаю, думаю: как бы им, где бы им найти радость. Целую жизнь ищу и ищу…
— Да?
— …и вот, когда здесь, у лесов, или там, где канадские каменистые плато… да, я и говорю, что вот здесь или там, где звериная простота, — тут еще можно найти радость. И может быть, есть она… а я вот запутался здесь, на вашем форту… Э… вот чугунная дверь к реке, на Репей-лог… к чему меня смятка привела. Хожу в эту дверь…
Он выскалил по-крысьему рот.
— …и расстреливаю.
— Да? — равнодушно отмерил дондрюковский нос.
— Да, да, да! Это легко, думаете? Э, в темечко, я говорю… в темечко расстреливаю. Солдаты ваши так называют. Легко?
Дондрюков встал.
— Как?
— Да, да! Так! Так, кого вы охраняете… Легко?
Дондрюков туже стянул широкий офицерский пояс.
— Нет! — Он стоял, вытянувшийся и стройный, точно после команды «Смирно!». — Я никого не охраняю, на мне лежит военно-оперативная часть, только!
— Вы удивлены, будто не знали…
— Знал, но…
— Да-да, именно тех, кого вы так дисциплинированно охраняете.
Дондрюков правой ладонью нащупал рукоять шашки.
— Прошу!
И в ответ ему сразу заострившаяся рубленая голова выплюнула угрожающие злые льдинки.
— Э, вы еще недостаточно вытренировались. Будьте осторожны, я слежу за всем… да-да…
Тонко и одиноко протильникали дондрюковские шпоры, и Ругай, долго всматриваясь в уходившую спину, гладкую и квадратную, почему-то захотел ее окликнуть:
— Дондрюков, вы женаты?
Из сумрака удивленное:
— Нет!
— Так, — и неизвестно зачем, будто отвечая на собственные мысли, заговорил Ругай, — есть здесь прекрасная баба, Пелагеей звать, здоровая, подходяща вам, да… советую…
От реки медленно ползут сырые холсты. У берега жалобно заныли лягухи.
— Кто?
Ругай захохотал, глядя на тучное сытное небо.
— Да! У меня есть мечта… большая и сильная… ржаная и пышная.
Он побежал по гулкому булыжному плацу. А за спиной, вдогонку ему, глотало, звенело, ухало — не чугунная ли ломится дверь?
Страшны ночью чуть слышные шелесты, шорохи; бредит сонною тайной все живое — серые зеленя, булыжник, желтая Свеяга, присевшие на корточки флигеля, и худосочный огонек в дондрюковском окошке, и стреноженные обозные лошади, слюнявыми губами перетирающие траву; да и не у ночи ли самой влажные мягкие губы — и она, ненасытная, гложет, хлюпая, все, что придется. А с неба круглая, отъевшаяся на ночном разбое луна что-то нашаривает на голой земле или ищет кого…
Все мы по ночам убогие, жалкие и нищие, и если яркое солнце сжечь может, очищая наши грехи, и печали скучные выпарить может, то луна, загнав нас на ночь по углам, лишь сильнее томит мечтой и юдолью.
При стылом огоньке истаивающей свечи букву за буквой жует не спеша племянник Дондрюков, молясь на сон грядущий по исшарпанному своему требнику о неутоленной любви и неутолимой страсти нежного отрока Уго, взыскующего милости у госпожи Эстензианского Кастеллиума; он читает и о прочих феррарских женах, подобно псам срывающихся ночью с цепи и готовых творить все доброе и злое.
А под воротами, где караулка прижимается к внутренней стенке учебного плаца, за увесистыми тысячепудовыми сводами притулились какие-то, удобно засев в примерный окоп у шлахтбаума: вероятно, часовой и приятель его, охотник до ночной открытой беседы.
Протяжно выпевает веретено.
— …и так было, милочек, неподобно, чтобы генеральская дочь на покрутку сбежала с небритым бомбардиром; а все от тоски, страшная ей была тоска. И вот такая выпала генералу неприятность, чтобы единственная дочь подобный удрала фортель. А генерал Дондрюков важен был и упорист, ему сама Катерина самолично писульки писала. Я, говорит, матушке государыне честно служу и не желаю, чтобы мою генеральскую честь дочка попрала. И поставил он, милочек, погоню. А как нагнали их, заарканил он девку, сам-то верхом, а ее, милочек, нагую чуть, за конем на аркане гонит. Тридца-ать верст, милочек. Тут, на Репей-логу упала она, по колючкам-то… а он волокет. А народу кругом много, смотрят на тиранство и смеются. Не знали еще, что будет. А было, что сказал он бомбардиру, ты, говорит, увел, ты и плати. А потом честь честью по команде — пли!..
Смолкнул, ерзнул, вспугивая мрак, огонек для закурки.
— Девка, говоришь… Известно, женское дело — тонкий пол. Ссохла, словна верба, по ночам у лога плачет. Да генерал скоро прекратил, подыскал ей пару из гражданской конторы, выдал приданое богатое и в столицу услал. Так, милочек, жили… И долго еще так жить будут…
Не алые лебеди распушили крылья по небу, то весенние зори пустили перья. Стрижи кучами вьются, заплетая песни; и ничтожный стебелек, и белотелая береза одинаково рады потянуться навстречу солнцу. Много ждет его денной работы.
Племянник Дондрюков в туфлях на босу ногу вышел на крылечко, шея замотана мохнатым полотенцем. Он идет по влажному, не успевшему еще обсохнуть булыжнику, приятно ощущая прохладу. Бритую голову, мясистый нос ласково щекочет солнце, а в ногах еще сырая ночь. Дондрюков торопится к Свеяге: купаться.
Из ворот плавно выплывает таратайка, направляясь к флигелям. Возчик вдруг лихо подстегнул лошадь, молодецки осаживая у крыльца. Из таратайки выпрыгнула женщина, быстро оглядела плац. За углом высунулся парень в исподней и в желтых, коротких к низу штанах. Парню интересно поглазеть на чудную бабью моду:
— …здорово, какими клетками сачок разрисован…
Не успел парень пятку почесать, как приезжая мигом к нему.
— Эй, товарищ, ты кто здесь?
Парень было опять за угол — да совестно…
— А никто… красноармеец.
— Так поди доложи…
— Никак не могу, мне барину сапоги чистить надо.
Запрыгала малая, что ребенок-кругляш, хохочет.
— Барину… какому барину…
Веселая, глаза — синий чернослив, а клетки на пальто желтые, черные, серые…
Парень обиделся.
— Какой барин… вестовой я, дондрюковский, известное дело. Да вон они сами купаться пошли.
Указал плечом парень на Дондрюкова.
Нет покою приезжей.
— Эй, товарищ…
Дондрюков оглянулся.
— Товарищ, куда прикажете? Я из Петербурга, в качестве следователя, в вашу Комиссию…
Искоса, через нос, морщится на пестрые клетки Дондрюков.
— Не знаю. Не мое дело. Спросите Ругая.
И сегодня Дондрюкову купанье не в купанье, ни чуточки не бодрит желтая глубокая вода.
— Что это за цацу принесло?
Пока пил чай, допрашивал вестового Семку.
— Ну и что же она…
— Да она, как дурная, будто коза… Доложи, говорит, товарищу Ругаю, что вот, мол, приехала товарищ Катя…
— Ну и что?
— Известное дело, докладываю ему: спрашивает, мол, вас Катя Клетчатая из Питера…
— А-ах, дурак, — смеется Дондрюков, — значит, Клетчатая.
— Известное дело, Клетчатая!
Ночи нет, утра нет, в окна снова хохочет румяный день.
На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию.
«Капитанская дочка»
Окна кончаются вверху овалами, внизу от подоконника на пол-аршина высится решетка из железных прутьев. Высокие грязные двери без ручек, их открывают просто — толчком, ногами. Стены вытягивают плавные своды, затканные паутиной. Рама с выдранным портретом, — на карнизе коронка. Тут же по истыканной стенке, хранящей следы разных наклеек, лепится плакат: выщерив зубастый рот, жирный усач в конфедератке посвистывает нагайкою, а около него мечутся черные буквы — смерть белопанской шляхте.
Или другой еще: ласковые, довольные и сытые — ухмыляется хитро приятная компания — поп, кулак и капитал.
Капитал в цилиндре.
А посреди, перед окнами развалился нахально огромный стол из лакового дерева, сукно с крышки срезано, и белые струганые доски покрыты истертой желтой бумагой. Двумя кучками раскинулись по бокам дела, жестяная чернильница и блюдечко вместо пепельницы. В простенке меж окон излюбленная мухами таблица «Конституция РСФСР», а на кресле сама Катя, устало облокотившись, хмурится: как солнце лижет чернильницу и горячими лапами шарит в шкапу по пустым полкам.