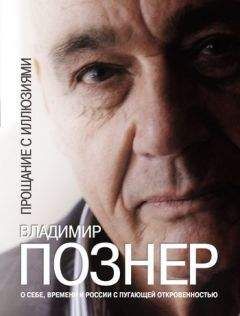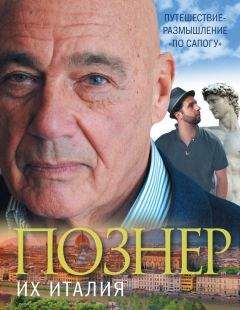— Спасибо. Хлебца тебе?
— Сухарики есть. Сухарик погрызу, а вот испить бы чего…
— Усаживайся, молока дам.
Прохожий прикинул на глаз Полагу.
— А и славный ты бабец.
Домовито присел на колоду, распутывая немудрое хозяйство. Полага принесла малую кринку и пахучий свежий ломоть.
— Так-то добро поужинаем… А ты чего умертвилась, ласковая? Смотри, цыпленочков не доносишь. Так-то, бабец.
Полага серьезно:
— Помяни раба Божьего Трифона.
Ухмыльнулся прохожий, качнув на груди кипарисовый крест.
— Папашку твоего… Не слезись, красная. Зачтется ему.
Охнула Полага.
— А ты откуда знаешь? Чей ты?
— Божий человек из Вышнеграда. Слыхала? Вон оно как.
И не учуять, кто сей — озорство ли в нем или блажное юродство.
— Ты что думаешь, на небе-то легко жить? Ох ти, трудно человеку в покое и радости. Все хорошо, а уж человек муку себе сыщет; так оно, девушка…
Он вздохнул.
— …Грех-хи… может, этим-то и оправдаемся пред Ним.
Ткнул прохожий костыльком к небу, попадая в солнце.
— Я не девушка, — застыдилась Полага.
— А? Ах ты, скажи на милость, ошибся, значит. Детей-то нет. А? Может, оно и лучше. Ему видать с небушка-то, как с тобой поступить. Родишь, да, может, такое незадачливое, что прямо бесу в пекло…
У палисадника хрипнула с маху осаженная лошадь. Через ветви проскользнула рубленая голова Ругая.
— Э!.. Пушкова нет? Добрый вечер, Пелагея Трифоновна.
— Заезжайте, заезжайте… в городе хозяин. Кукую вот здесь. Заходите, гостем будете.
Прохожий смеется беззубым ртом.
— Ставь, хозяйка, опару, поджигай сковородник. Гости едут…
И сразу осел, лишь Ругай за палисадник шагнул.
Сидят трое, на лавочке, помалкивают; кашлянула смущенно Полага.
— Будете в Свеяге, товарищ Ругай, моему скажите; обязательно чтобы приехал. Люди ездют, ездют, а он засел в конторе своей, и ничем его, теленя, не выманишь. Скажите: сурьезное дело.
— Хорошо.
Ругай, лениво скрутив толстую пыхалку, наклонился к страннику, заострив губы:
— Не хотите ли турецкого? Употребляете?
Странник, искоса оглядев, разбойно повел густой бровью.
— Отчего же не употреблять… И ладанок афонский, и сорочанское зелье одинаково на потребу людям. Все, браток, в мире к месту прилажено, нету лишка, а есть один грех — наказание наше и поношение, находка Каинова…
Привычно зализал папиросную бумажку.
— …смертоубийство. Вон оно как. Не надо лишней смерти, браток; смерти не надо.
— Ты что же… смерти не надо… вроде Льва Толстого. Э, забавно… знаешь, если снять этот твой крест, так ты точная копия…
И опять озорно ухмыльнулся странник.
— А может, я — он самый и есть.
— Умер, умер человек, давно умер. Да ты знаешь ли, про кого я говорю?
— Про Лёву… Как не знать? Огромный был человек, русской души. Страшная, браток, причина, что его у Исакия проклинали… В Питере-то бывал?
— Ну да.
— Напрасно, по-моему, проклинали. Надо было в расчет взять, что, может, он один у нас и больше не будет. Спросят: что-де такое Россия? А мы в ответ сейчас: а это, где вот Лёва Толстой. Надо нам это почитать, ух как… Вон оно, а никак, хозяюшка, новые гости к тебе…
Ширкунком серебряно позванивая, медленно и смущенно спускался по канавной гати плетеный шарабан. Пушков, слезая, суетливо лопотал и улыбался и, ловя улыбки руками, рассовывал их по карманам.
— А мы, значит, с товарищем Пазовой, мимо… на форт, на осмотр. Они у нас в просветотделе.
Он указал на Тайку.
— Думаю, надо проведать… Здравствуй!
Взял за наперстья Полагу и сбоку как-то поцеловал. И почувствовав, что это вышло неловко, еще раз чмокнул ее в правую щеку. Полага же, расставив ноги, тяжело смотрела на тоненькую барышню в белом суровом пыльнике.
Прошла минута. Оправились. Ругай Тайке руку подал, соскочила та с шарабана, путается в пуговках пыльника.
— Ой, руки… какие серые, серые. Вот сушь; дорога — настоящий порох. Здравствуйте, помыться нет?
— Пойдемте, барышня, проведу.
Рядом с ней Полага велика, что петух около курицы.
— Ах, вот спасибо… Жарища страшная. Что? Красная я?
И захохотала звонкими стеклышками.
В палисаднике солнечно и весело. На живую руку склеили нехитрый путевой разговор.
В сенях Пушков шепотком учил Полагу:
— Самоварчик приготовь! Ну что, ну чего ты этакой раскорякой стоишь.
Ресницы упали-поднялись, отвернулась Полага и тихо, совсем-совсем тихо:
— Не стану я шлепохвосткам твоим самовары греть.
— Не станешь!
Не слово — пятипудовик кинул.
— Тимошенька…
— Ну, ну чего… я же говорю, по казенной надобности, служба. Что ж я, середь дороги ее оставлю… Понимаешь. Никакая она будет, купеческая дочь, с образованием и даже по-французски… Как же я такого человека… ну-ну…
Прижал, пригладил Пушков Полажку; отлегло у той, засверкал косарь — брызжет самоварная лучинка.
— Ты поедешь?
— Ну а как же…
— Тимошенька!
— Господи, да чего тебе надо; не сучи, а толком…
Ночная июльская молния пылким кольцом разом охватывает всю землю до пылинки ничтожной, — так и Пушкову не уйти от жаркой Полаги.
— Останься, солнышко. Уж так-то мне скучно да томно.
Тимохе лестно, заярились веснушки.
— Ну, вот на обратном пути, с форта вернемся когда. Дела, что же я могу; на мне, может, присяга… Ишь ты, смолка, запыхалась. Ну-ну, грей самовар.
Пушков вышел в палисадник добрым и рачительным. Подобрав гнилую слёгу на ходу, прибрал ее к месту. Хорошо, прекрасно бывает, когда после дождичкаа пыл умнется, — так и на душе.
— Так-с, товарищ Ругай! Намедни необыкновенное слово в газетах усмотрел.
Ругай острыми уголками губы сдвинул, притворяется, что слушает, а сам вымеривает глазами Полагу вдоль и поперек; Полага перерядилась для гостей в бархатное платье, только сапоги не успела обуть.
— Такое замечательное слово. Правительство, говорится, это нерв народа. И верно! До того верно, что можно сказать, человек без нерва — бесчувственный кусок, земля.
— Да, да… нервы, конечно, это очень хорошо, Тимофей Потапыч, но… э… как бы это лучше сказать… нервы — одна из ненадежных частей организма.
— Ну, мы, — Пушков тычет себе в жирную шею, — разве мы, например, не нерв?
И отвечает сам себе очень довольный:
— Нерв!
Странник, стряхая с живота крошки, ненароком впутался в разговор:
— Разные тоже нервы бывают. Вот у нашей барыни, целую жизнь с ними мучилась. Я, браток, на своем веку тысячу народу до дыр проглядел, ноги истоптал. От нервов-то, браток, и с ума люди сходят. Вот оно как! Качество-то какое у нервов?
И, заткнув за спину кошелку, тронулся:
— Во имя Отца и Сына… благодарствуйте!
Пушков на него небрежливо:
— Эх вы, секта, пороть вас всех-то.
А старик в ответ лукаво костыльком грозится:
— Всех не перепорешь, а сам напорешься. Приятной компании честной поклон.
Покуда Полага устанавливала на столе чайную посуду, Пушков повел по двору барышню: хозяйство свое показать.
— Любоваться, конечно, нечем, Таисия Никандровна, ну да у меня почище прочих. Хочется, Таисия Никандровна, совсем по-новому, чтобы старорежимный постный дух огнем выжечь. Уж не соображаю, что выйдет…
Так хорошо подержать мягкую Тайкину ручку.
— Чародейка вы, Таечка, можно сказать.
Тайке весело и страшно, будто она в карты играет на большую сумму.
— А вот я жене скажу…
Пушков выпустил ее руку; Тайка хитро усмехнулась.
Когда отпили чай и подошли проводы, снова зашептала в широких сенях Полага:
— Ой, Тимоха, смотри! Не накличь беды. Если замечу что, такое надумаю… И себя, и тебя, весь народ удивлю.
— Полажка, ясынька… по должности с этой барышней. А любить вот… вот…
И так смачно и сдобно расцеловывает зардевшую жонку.
— …тебя… вот! В Свеягу увезу!
Ухватив за широкие пуховые плечи, шутит:
— А Ругай зачем здесь? Ну-ка, ну-ка?
Но ведь шутка шутке рознь; нет в ней существенности, нет и задору усмешного, мигом тухнет такая шутка.
Разъехались по-честному.
Ругай на мерине верхом к городу Свеяге, а шарабан по вечерней легкой дороге на Рвотный форт.
Вдогонку бегункам-колесам окрестила Полага путь, постояла, подумала, про отца вспомнила.
— Давно на могилке не была.
Колеса вертятся. Жизнь вертится. Сгорел благословенный день.
13 июля 1826 г., день казни пяти декабристов, в полдень государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку, и платок и побежал во дворец.