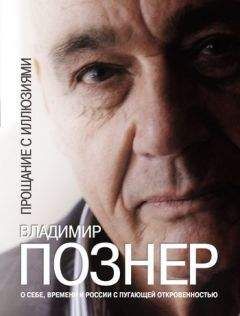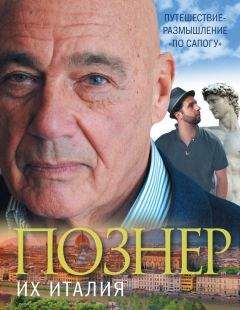День жаркий, и к делу лень, и от дела лень. Сегодня Аграфена, разрешение купальничать. Да не любит Катя купаться, боится Катя воды…
По приезде Катя гуляла-обегала и реку, и лог, и синий лес, горою пик настороженный за утюжным фортом. А теперь тоска. Чего-то хочется, не на чем глаза размыкать. Это солнце виновато. То ли дело в городе: сзади крыша, спереди крыша, фонари высокие, чугунные, трамвай, собрание в парткоме, конференция, лопнул водопровод, экстренная мобилизация, партийная чистка. А тут на пустоши по пустякам душу томит, топит и мает.
Солдат ткнул дверь — штык высовывая.
— Здесь. Можно вводить?
Катя еле кивнула. Солдата нет.
Вместо него — легким шагом тонкий субтильный человек.
— Присядьте.
Человек вежливо поклонился и кончиками длинных пальцев осторожно придвинул к столу табуретку.
— Вас зовут Марк Цукер?
И неожиданно тонкая дискантовая фигура пропела заунывным гитарным басом:
— Моя фамилия Марк Цукер, двадцати семи лет…
И вдруг заторопился — будто сразу всеми пальцами на всех ладах.
— Я не понимаю, что за безобразие, столько времени, и держать без допроса…
— Ну? — с сердитой усмешкой свела черносливины Катя.
— …за что меня держат?
— За что? Однако вы притворщик…
И стряхнув усмешку с влажных губ:
— Вот что, товарищ Цукер, советую вам быть искреннее, для вашей же пользы, скрывать… одним словом, из сопоставления многих подробностей и нескольких дел…
Катя любит — витиеватый слог. Подруги по женским курсам прозвали речь ее завитушечками.
— …можно усмотреть ваше и прямое, и косвенное участие в предполагаемой антисоветской агитации, рассчитанной на неустойчивость крестьянских масс нашей округи.
Задвигал удивленно рыжей щетиной Цукер (его запрещено было брить).
— Совершенно не понимаю.
— Может быть, вы и вашу партию забыли?
— Я теперь в партии не состою…
— Теперь? Однако! Еще раз предупреждаю, республика терпит только чистосердечных, иначе…
Цукер смущенно заскреб рыжую шею.
— Нет… после не состоял.
— Однако такое упорство, вы знаете, пахнет расстрелом. Мы знаем, что вы приехали со специальной целью приготовить здесь почву…
— Нет, нет! Я не могу согласиться ни с одним вашим словом.
Он закатил глаза, и под упорными колючими ресницами застеклянились желтые белки.
— …ни с одним! Из моих документов, кажется, видно, что я приехал сюда как представитель кооперативного союза. Совершенно искренно. Никакой агитации, я совсем не пропагандист. Я обыкновенное должностное лицо, и прошу обращаться со мной как с должностным лицом.
— Однако! Во-первых, ваша кооперация — не должность, а во-вторых, своей лояльностью вы мне очков не вотрете…
— Чепуха, ах какая чепуха!
— Будьте осторожны… Вы говорите в официальном месте и с лицом, исполняющим служебные обязанности. И потом…
Катя вспыхнула, смаслились синие черносливины.
— …я чепухи не говорю. Зарубите… Здесь чепухи нет! Вы знаете, чем это пахнет?
— Ах, знаю, знаю…
Вялый, тонкий, свис понуро на письменный стол.
— Это пахнет…
— Знаю, знаю… Все-таки я ничего не организовывал.
Катя задумалась. Скоблит указательным пальцем влипшую в бумагу хлебную крошку. Катя потянулась к пачке папок, перебрав пальцами, выдернула одну — взлетел пыльный клубок. Цукер чихнул. Катя в деле послюнит, перелистнет, муху лениво сгонит с толстенькой своей шеи. Цукер зевает. Сидят. Молчат. Солнце уже убежало с полок.
— Вы в номере семь.
— Да!
Катя осторожно взглядывает.
— Так… А скажите: вы сюда один приехали?
— Совершенно один.
— Так. Вы знаете вашего соседа, камера номер восемь?
— Здесь узнал, да и то так — вообще…
— Ну, а мне кажется, что между вами существует что-то общее. Очной ставкой… мы установим…
Катя отдала приказание.
— Да… мы установили…
Спустя малый срок в комнату ввели бритого человечка. Он ходил на носках, приседая, выписывая руками кренделечки; было в нем много сахарного — и не шагал, не садился он, нет, он был ходячею балетною позитурою.
— С вашего разрешения… с вашего разрешения…
— Не перебивать! — отрубила Катя. — Вам известен этот человек?
Она указала на Цукера.
— С вашего разрешения… не имею чести знать. Позвольте представиться: экс-чиновник особых поручений Донат Глобберторн… Глоб-бер-торн! По какому министерству изволили служить? Нет… прошу прощения… Ну конечно, у Гуносовых на художественных суаре… очень, очень знакомое лицо… Вы, кажется, играете на виолончели. Помните, я привез тогда кордебалеточку… прелесть способная девочка… ах, когда она скользит в глиссандо, то…
— Послушайте, вам я говорю…
— …прошу прощения…
Он застыл в живописной позитуре.
— …что вы предо мной пируэты выкидываете? Который раз вас допрашивают, а вы белиберду несете…
Катя рассердилась. Ткнула пыльную папку. Цукер опять чихнул. И не отсюда ли Катино ожесточение…
— …вы, вы не танцуйте. Дотанцуетесь так у меня. Вы знаете, чем это пахнет? Я заставлю…
И даже басом:
— …я покажу, черт побери, шуточки…
Позитурный человек зарисовал часто-часто кренделечки.
— Mais, mais, mais mademoi…
— Me, ме, ме… черт возьми, я покажу, чем это пахнет. Вы что здесь морского жителя разыгрываете, на вербе вы, что ли…
Цукер улыбается.
— Я вас к машинке подведу, тогда заговорите по-человечески…
Клетчатым мячиком выпрыгнула Катя из-за стола, Катя катится по полу, подпрыгивая на разбитом, потасканном для печек паркете.
Споткнулась о кресло, дверь пихнула с сердцем — и к страже.
— Обратно, в номер семь.
И под лязг ружейных затворов продолжила звончато:
— …И этого, морского жителя… тоже взять.
Приспособилась в кресло, опять поморщившись на ту вечную пыль, что солнце неутомимо в лучи свои собирает. Посмотрела, любопытствуя случайно, на двух мух, сладко друг к дружке прильнувших в тени под чернильницей, радужно выпятивших глаза-шарики, — и казалось, не будет конца тихой мушиной истоме… а было это один только миг… но миг уловляя, гулко хлопнула хлесткая Катина линейка — и нет уж мух — в укромном их местечке вместо них серая слизь, да чернила развеерились красными искрами.
Катя заплакала в кружевной платочек.
Почему, ах почему только солнце обнимает Катину талию? Только солнце, падающее в лог.
И не оно ли шепчет Кате:
— Надо поуютнее жить…
Еще есть один человек, цирульник Федя. Он взобрался на скамейку, что под певучей елкой у окна, и вышаривает корявыми своими глазами через окно следственную комнату и губами немые словечки вышептывает:
— Не плачь… не плачь, моя Катюшенька.
Но не услышать Кате Фединого шепота. А вслух сказать? Разве скоро решится на такую немыслимую дерзость цирульник Федя…
Белый пан, помахивая нагайкою, щурится на Катю. Не он ли высушит Катины слезы…
А слыхала ль ты, рыбка-сестрица,
Про вести-то наши, про речные?
Как вечор у нас красная девица утопилась.
Утопая, милого друга проклинала.
Пушкин
Бывают мирные ласковые дни, когда даже мышь покидает свою нору; и ей невмоготу избяной дух, и ее манит утешиться денным теплом.
Полага тихо поскрипывает сверкуньями-спицами, гоноша на осень мужу мягкий шерстяной обуток. Тонкий ветер кисейные шутит шутки, поигрывая с травяным стебельком, с пахучей ромашкою; солнце сквозь кружевную березку в палисаднике лихо осыпает Полагу золотыми пятаками.
Благостно и дорого видеть голубой небесный покров и знать, что живешь. Так и просидела бы Полага до самого паужна, как розовая телка-крепыш, что к вечернему подою, надышавшись и насладившись вволю нежной отавой, светом голубым и теплым, вдруг пьянеет, и загонять ее в хлев чистое мученье.
Да помешал Полажкиному покою бродяга, странный человек с кривым костыльком, в холстинковой до колен рубахе. Поверх рубахи спускался у него резной кипарисовый крест, а за спиной холщовая замызганная кошелка. По-кошачьи выступая босыми ногами, точно прихватывая на ходу цепкими пальцами камешки, соломинки и разную мелочь, он свернул с дороги к палисаднику.
— Мир ти, хозяюшка.
— Спасибо. Хлебца тебе?
— Сухарики есть. Сухарик погрызу, а вот испить бы чего…
— Усаживайся, молока дам.
Прохожий прикинул на глаз Полагу.
— А и славный ты бабец.
Домовито присел на колоду, распутывая немудрое хозяйство. Полага принесла малую кринку и пахучий свежий ломоть.
— Так-то добро поужинаем… А ты чего умертвилась, ласковая? Смотри, цыпленочков не доносишь. Так-то, бабец.