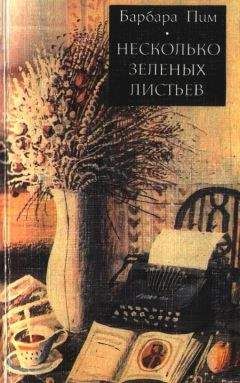— Суду? — еще больше удивился Аяйвач. — За что?
— За то, что грозился убить Развозторга.
— Да не хотел я, — захлебываясь от волнения, заговорил Аяйвач. — Не хотел никого убивать и никому не грозил!
Храп русского вдруг прекратился. Он заворочался на нарте, заскрипел ремнями, и кожаный чехол ружьеца глухо стукнулся о полоз.
— Молчать! — вдруг заорал Ваямролтыт. — Не разговаривать!
Залаяла проснувшаяся собака.
Русский приоткрыл один глаз и спросил:
— В чем дело?
— Разговаривает, — с готовностью доложил Ваямролтыт.
— Пусть заткнется, — спокойно сказал русский, повернулся на другой бок, заставив застонать парту своей неимоверной тяжестью, и захрапел пуще прежнего.
Аяйвач замолчал. Он понял, что убеждать в своей невиновности Ваямролтыта, а тем более русского бесполезно. Надежда только на то, что в поселке или же Петропавловске-Камчатском найдутся разумные люди, которые разберутся и вызволят его из этой беды…
Но дальше события последовали с такой быстротой, что Аяйвач даже не совсем понял, каким образом он оказался приговоренным к двадцати пяти годам лагерей, как было оглашено на суде «за вооруженный террор против органов Советской власти».
Много было удивительного и непонятного на том суде. Прежде всего выяснилось, что Развозторг — это не имя человека, а название торгового учреждения, призванного снабжать всякий кочевой народ, живущий на границе леса и тундры. Человек же, который испугался его шутливой угрозы, носил простое имя — Наум Гликман. Он был главным свидетелем на суде, и хотя Аяйвач не разумел ни единого слова из его рассказа, он догадался, что торговец теперь опасается заниматься благородной и нужной людям деятельностью из-за таких вот разбойников, как Аяйвач.
— Когда мне перевели на корякский, что я проведу в неволе двадцать пять лет, — вспоминал с грустной улыбкой Аяйвач, — мне показалось, что с неба светит, не солнце, а кусок льда. Так мне стало страшно и холодно.
Он некоторое время молчал, видимо заново переживая те воистину ужасные для него часы.
— Ты, наверное, думаешь, — обратился он ко мне, — зачем все это? Какое это имеет отношение к моей военной жизни и орденам, которые я получил?.. Наберись терпения, выслушай все… Если бы этого не случилось, не попасть мне на фронт… Не стал бы я носителем орденов, и никакие юные следопыты не заинтересовались бы моей жизнью… Когда я сидел в темнице и когда меня везли куда-то на пароходе, все мне казалось неправдоподобным сном. Хотелось проснуться, снова очутиться в родной тайге, на свежем чистом снегу, под лиственницей… По я просыпался и убеждался, что ничего в моей жизни не переменилось… Так вот, самые тяжелые мои переживания случались по утрам, когда кончался сон и приходила действительность…
Худо-бедно, но за время тюремного заключения и пребывания в пересыльном лагере Аяйвач начал потихоньку говорить по-русски.
Уже кончалось короткое северное лето, опала налившаяся соком желтая морошка, прихваченная ночными заморозками, когда Аяйвача привезли в один из колымских лагерей, где-то далеко в низовьях. И заключенные, и охрана, и вся лагерная обслуга жили в больших брезентовых палатках, со страхом ожидая надвигающейся зимы.
Аяйвач сразу понял: если ничего не делать, просто покориться судьбе, то зимой они все погибнут. Он доказывал, что надо вырыть землянки, заготовить дрова. Северный человек всегда так: чем ему хуже, тем крепче он цепляется за жизнь.
Однажды Аяйвача вызвал к себе сам начальник лагеря Петр Петрович Нефедов, высокий представительный мужчина. Он писал стихи и под псевдонимом Семен Северянин печатал их в лагерной политотдельской газете «О честной жизни». Самая популярная здешняя песня, положенная на музыку бывшим главным дирижером Пензенской оперетты и начинавшаяся словами «Колыма ты, Колыма, чудная планета…», принадлежала ему.
Он внимательно выслушал Аяйвача, потом вызвал какого-то офицера и велел повторить еще раз.
— Он — таежный человек, — сказал Нефедов. — За его плечами многовековой опыт выживания в труднейших условиях. Будем по-настоящему готовиться к зиме!
И закипела работа в лагере имени знаменитой летчицы Марины Расковой. Аяйвач хорошо знал, как строить таежную полуземлянку, чтобы она держала тепло даже при минимальном количестве дров. Сначала Аяйвач вырыл и отделал землянку для себя. По особому распоряжению Нефедова он поселился отдельно, и ему выдали даже, одеяло, подушку, некое подобие простыни — сшитый из мешковины кусок материи. В землянке поставили камелек из половинки железной бочки, обмазанной глиной и заполненной речной галькой.
Аяйвач почувствовал, что люди — и начальники и зеки — прониклись к нему уважением. Кто-то дал ему русскую кличку, очевидно, в честь главного лагерного начальника — «Петр Петрович». Все его так и звали Петром Петровичем-вторым.
Мастеровых среди заключенных оказалось более чем достаточно, и большие землянки-бараки росли как грибы после дождя. По распоряжению Петра Петровича-первого Аяйвача освободили от тяжелых работ и дали ему лошадь по кличке Сильва, на которой он возил воду из реки. Работа эта ему сразу понравилась, потому что он опять почувствовал себя нужным людям.
Аяйвач понемногу начал разбираться в своих товарищах, среди которых большинство оказалось совершенно неприспособленными к суровому климату. Наверное, это тоже было наказанием, кроме неволи — испытание холодом и невзгодами. Сердце Аяйвача сжималось, когда он видел, как какой-нибудь старый человек пытался спастись от всепроникающей стужи, натягивая на себя самое причудливое тряпье.
Вскоре Аяйвач почувствовал, что лагерное начальство ставит его в привилегированное положение, где-то между собой и некоторыми заключенными, отвечающими за порядок в бараках-землянках.
Однажды в лагере появился затянутый в кожаную одежду юркий человечек и снял с Аяйвача тень, говоря по-нынешнему, сфотографировал его.
Эту фотографию поместили на большой доске, воздвигнутой на главной площади лагеря, где обычно выстраивали всех заключенных для объявления какой-нибудь важной новости или же для пересчета.
Доска эта так и называлась «Доской почета», на ней помещались имена и изображения тех, кто хорошо и честно работал, кто мог даже рассчитывать на то, что срок его заключения, возможно, будет сокращен. Узнав об этом, Аяйвач забеспокоился: ему совсем не хотелось уезжать из этого удивительного места, где его считали настоящим человеком, уважали и нуждались в нем. Собрав весь свой запас русских слов, он спросил Петра Петровича, и тот утешил:
— По такой статье, как вооруженный террор против органов Советской власти, надо отсидеть, как говорится, от звонка до звонка…
Я слушал Аяйвача, пытаясь по его интонации, отдельным словам догадаться об истинном характере переживаний его в колымском лагере. Неужели не тянуло обратно в тайгу, к своим сородичам? Или же он был в той вольной жизни настолько одинок и обездолен, что и впрямь только в лагере почувствовал себя, как он утверждал, «настоящим человеком»?
Но течение рассказа хранителя соляных куч лилось ровно и внешне бесстрастно. Его слова о лагере вызвали у меня внутренний протест: в самом ли деле было так хорошо? Только что по всей стране прошла волна реабилитаций, и мое поколение с удивлением узнало, что от нас скрывали целый трагический пласт отечественной истории, и человек, которому мы поклонялись с детства, совсем не такой уж святой, гениальный и добрый, как о том говорилось чуть ли не в каждой напечатанной строчке, в каждом лозунге или плакате.
— Я верил, что нашел свое настоящее место в жизни, — продолжал повествование Аяйвач. — И люди в нашем лагере тоже свыкались и приноравливались к новому образу жизни. У большинства из них, как и у меня, сроки были большими, нужно было думать о том, как получше устроиться здесь, не надеясь ни на что другое… Но потом… началась война!
Я хорошо помнил, как пришло это известие в мой родной Улак, вызвав у меня противоречивые чувства и мысли, которых я впоследствии стыдился. Тогда мне казалось, что настало и для нашего поколения настоящее время. Я мечтал о том, чтобы война продлилась подольше, мне хотелось скорей подрасти и поехать на фронт, совершать там разные подвиги. Я хорошо помнил предвоенные песни, в которых утверждалось, что врагу не поздоровится и он будет сметен с лица родной земли непобедимой Красной Армией.
— В нашем лагере имени Марины Расковой, — продолжал Аяйвач, некоторые охранники в первый же день ушли на войну. Петр Петрович тоже подал рапорт, но его почему-то не отпустили. Это его очень расстроило. Но еще больше он огорчился, когда пришло известие о том, что управление лагерей рекомендует меня на фронт, как одного из лучших и образцовых политических заключенных. Я не больно обрадовался. И вправду, мне совсем не хотелось на войну. Мне правилось в лагере, и о другой жизни я не думал. Я не понимал, из-за чего идет война, что делят эти люди, разгневавшиеся до того, что стреляют друг в друга из больших пушек, из которых можно убить наповал большого гренландского кита.

![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)