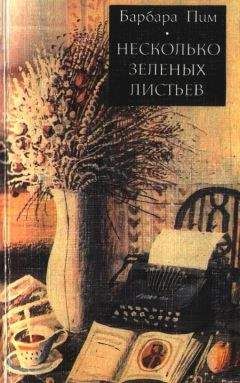Дорога домой показалась ему сплошным праздником. Аяйвач, повесивший на грудь все свои боевые награды и заметно прихрамывающий на раненую ногу, привлекал внимание и вызывал сочувствие, особенно у женщин. Иные даже предлагали ему руку и сердце, уговаривали остаться, обещая заботу и сытую жизнь, но Аяйвач всей душой стремился в свой суровый край, в свой лагерь имени Марины Расковой.
И вот в один прекрасный, теплый осенний день Аяйвач сошел с попутной автомашины и приблизился к знакомым воротам. Охрана не узнала его. Это были совсем молодые ребята, наверное, недавнего призыва. Они с любопытством оглядывали ладную фигуру бывалого солдата, и один из них, повертев ручку телефонного аппарата, прикрепленного к стене дощатой будки, вызвал начальника лагеря.
Петр Петрович-первый встретил Аяйвача как старого друга. Он долго обнимал и тискал его, целовал своим пропахшим табаком ртом, отстранял от себя, потом снова приближал, любуясь наградами, и все приговаривал:
— Ну не ожидал! Ну герой! Ну молодец!
Петр Петрович повел Аяйвача в зону.
Там все было как прежде, как полтора года назад. Даже землянка сохранилась, словно Аяйвач только вчера покинул ее, И Сильва была жива, но ухаживал за ней теперь башкир, бывший главный редактор республиканской газеты, обвиненный в сговоре с японским империализмом и получивший неизменные двадцать пять лет.
Петр Петрович предложил герою войны остановиться в другом бараке, где жили так называемые блатные, но он отказался и предпочел свою землянку, по которой так тосковал на фронте.
И потекли, покатились праздничные дин!
Пили огненный спирт, заедали синим колымским снегом и малосольной рыбой, которую выловила и засолила для лагерного начальства специальная бригада рыбаков, отбывающих срок по обвинению в намерении продать рыбные богатства Дальнего Востока японцам.
— Мне было хорошо! — рассказывал Аяйвач, явно приближаясь к концу своего долгого повествования. — Но все чаще по утрам меня охватывала тревога. А началось это с того, что заключенные стали сторониться меня, словно и не герой, а некто, зараженный дурной болезнью… Иные прямо говорили мне, что я — свободный, что близок к начальству. И Сильву не давали, потому как на ней должен был работать другой. Грустно жить без привычной работы, без Сильвы, без доброго отношения людей… Да и для начальства я ведь тоже больше не был зеком, я почти что приближался по положению к ним, потому как был свободным, да к тому же героем воины. Многие офицеры явно завидовали мне, я это чувствовал… Кончились праздник и, кончился даже спирт, который привозили в Нагаевский порт на больших пароходах в железных, с туго завинчивающимися пробками бочках. Солнце перевалило на весеннюю сторону горизонта, как меня вдруг вызвал Петр Петрович. Вместе с ним был какой-то начальник из Магадана, из тех, кто таскает с собой большой кожаный портфель. Так вот у того магаданца был прямо-таки огромный портфель и так туго набит важными бумагами, что казалось, вот-вот лопнет. Достает начальник бумагу и подает Нефедову, а тот торжественно читает, что Указом Президиума мне отменен приговор за вооруженный террор. Я сказал, что никакого террора против Советской власти у меня не было, и я, как бедный коряк, эту власть люблю. Она освободила меня от батрачества, я сделался вольным охотником, потом зеком, а потом героем войны. И все — только благодаря новой власти, против которой у меня никогда не было никакого зла… Но магаданский начальник пропустил мимо ушей мои слова и громко защелкнул замки на своем толстом кожаном портфеле. Он уехал, а мне Петр Петрович сказал, что нельзя больше оставаться в лагере… А я тогда не понимал, зачем мне покидать привычное, можно сказать, любимое место, свою землянку…
Но Нефедов был непреклонен:
— Пойми, дорогой Аяйвач, ты теперь свободный человек! Понимаешь — свободный! — говорил он.
Да, не ведал начальник лагеря, пишущий стихи, что эта свобода для Аяйвача хуже смертного приговора.
— Куда же я пойду? — глотал подступившие к горлу слезы Аяйвач. — Я хромой, увечный… В тайге пропаду, в оленьи пастухи меня не возьмут…
— Я все понимаю, — кивал в знак согласия Петр Петрович. — Но ничего не могу поделать: ты человек вольный и должен покинуть лагерь.
Аяйвач умолк. Казалось, трехдневный рассказ о своей жизни отнял у него последние силы. Но вот он поднял голову, посмотрел на меня и с горечью произнес:
— Никогда мне не было так обидно, как тогда, когда меня изгоняли из лагеря!
Аяйвач заварил новую порцию чаю, налил себе и мне. Но долго не начинал чаепития, глядя на голую фанерную стену перед собой. Я не торопил его, но, прождав довольно долго, все же спросил:
— А что же дальше было?
— Дальше? — встрепенулся Аяйвач, и слабая улыбка тронула его губы. — Дальше было худо. Таких инвалидов, как я, после войны оказалось много. Мыкался, тыкался всюду, пока не нашлись добрые люди и не устроили меня здесь, сторожем соли. Хорошая работа!
Мне удалось улететь в Магадан синим весенним утром, и меня провожал Аяйвач, герои войны, свободный человек.
Я все же написал очерк. Он назывался вполне в духе времени «Герой рядом с нами». Это была почти сенсация, потому что никто и предположить не мог, что отыщется коряк с такими боевыми наградами.
Правда, ту часть биографии, которая касалась пребывания героя в лагере имени Марины Расковой, я вынужден был опустить, и непонятно было читателю, какими путями попал коряк на фронт.
Через несколько лет, снова оказавшись в тех краях, я поинтересовался судьбой героя.
После публикации моего очерка Аяйвачу дали большую пенсию и квартиру, в которой он через год умер.
11. Большой Друг Эскимосского Народа
Летом в редакции «Магаданской правды» становилось малолюдно: время отпусков. Многие уезжали надолго, на несколько месяцев, и оставшимся приходилось работать за двоих, а то и за троих.
Поэтому я был удивлен, когда главный редактор предложил мне слетать на Чукотку, в Улак вместе с гостем из Москвы, известным поэтом.
Столичный гость приехал в творческую командировку. Человек он был грузный, усталый, но тем не менее любопытный. Выяснилось, что здесь прошли его детские годы, и он неутомимо бродил по Магадану, выискивая какие-то памятные только ему закоулки. Его чуть выцветшие голубые глаза смотрели на все пытливо и проницательно.
Еще в самолете он спросил меня:
— А какой национальный напиток у чукчей?
Я хотел ответить, что с некоторых пор им можно считать спирт, но сдержался и после некоторого раздумья назвал чай.
— Чай — это уже цивилизованный напиток, — заметил поэт. — Ты мне скажи, что пили чукчи в древности?
Покопавшись в памяти, я не нашел ничего такого, что бы можно было назвать по-настоящему национальным напитком моего родного народа.
— Сколько я себя помню, у нас всегда пили чай…
— Когда ты родился? В тридцатом? — усмехнулся поэт, он произнес это то ли с одобрением, то ли с осуждением, но как-то ласково: — Мальчишка еще…
Я тоже хотел порасспросить его о многом, но как-то робел, откладывал на потом свои расспросы о литературной жизни в Москве, о судьбе Бориса Пастернака, которого только что исключили из Союза писателей, о требовании московских писателей не включать имя Пастернака в будущую перепись населении страны.
Я еще в университете познакомился со стихами этого поэта, удивляясь их волшебству и завораживающей силе. Я словно видел картину, читая:
Все сегодня наденут пальто
И заденут за поросли капель.
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил…
Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце нынче сегодня, как ты,
Солнце нынче, как ты, северянка…
Приезжий поэт знал наизусть много других стихотворений Пастернака, и потом, уже в Улаке, когда собачий вой не давал нам спать в гостевой комнате, он глухим завывающим голосом бубнил их со своей кровати.
Из всех литературных новостей дело Пастернака было самым главным и еще не имело конца, потому как продолжалось оно, вызывая в моей памяти иные события, уже ленинградские, когда клеймили Зощенко и Ахматову, потом антипатриотическую группу театральных критиков, еще кого-то… Филологический факультет университета кипел страстями, и по широкому коридору второго этажа, мимо огромных конкурирующих газет филфака и востфака сновали профессора и доценты, какие-то важные служители и члены факультетского партийного бюро.
Я, занятый собственными литературными и семейными делами, далек был от всего этого. И лишь намного позднее понял, в какое интересное, трудное и сложное время я учился.
В Улаке нас поместили в старом учительском доме, необычно пустом: старые учителя, закончив свой договорный срок, уехали, а новые еще не прибыли, и потому в этом бревенчатом многокомнатном здании, выстроенном еще на моей памяти, жила всего лишь одна молоденькая учительница английского языка, приехавшая в прошлом году из Горьковского педагогического института.

![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)