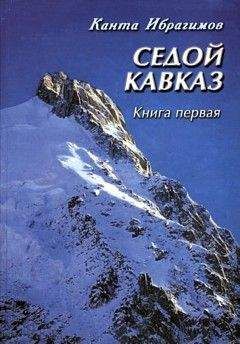— На́ вот Карьку твоего, — подвел ему коня Васька.
— Запрягать, стал быть, станем, — бодро ответил кум Гаврюха, завязывая веревочки от лаптя на онучах. — Эх, лети-мать, а хомут-то где же? И дуги не видать…
Ему никто не ответил. Запрягать-то, однако ж, было пора.
— Ну, побаловались, ребяты, и будя, — заступился за кума Гаврюху Егор Проказин. — Отдайте мужику снасть.
— Да она, знать, совсем рядушком, — показал Васька Рослов, — чуть не над телегой висит.
Все засмеялись, а кум Гаврюха, улыбнувшись в усы, неподдельно обрадовался:
— Гы-ы, лети-мать! Дак я ж такую деревину с коих пор ищу! Засунув длинную костлявую руку под примятую траву в телеге, он выхватил топор и, расталкивая столпившихся ребят, направился к березе.
— Постой, постой! — придержал его за рукав Егор Проказин. — Чего эт ты делать-то надумал?.. Увидють казаки порубку — в ночное сюда нас пущать не станут.
— Глупой, что ль, я совсем! — огрызнулся кум Гаврюха, сел возле обреченной березки и рубанул под самый корень: топор аж в землю вошел. — Срублю, и знать никто не узнаеть. Сами, лети мать, вечером этого места не найдете…
— Пошли к табуну! — позвал всех Васька Рослов.
— Идитя, идитя! — заторопил кум Гаврюха. — Ждуть небось лошадей-то уж дома.
Разноголосый гомон ребят отлетел вместе с набежавшим игривым ветерком. А через считанные минуты за деревьями прогудел по степи топот множества конских копыт, взвихривших пыль, — и снова все погрузилось в покой, нарушаемый лишь глухими ударами топора.
Как и хотел того кум Гаврюха, березка, вздрогнув от последней подсечки, зашумела молодой листвой и покорно легла в нужном направлении — вершиной от озера, к степи. Отодвинув комель, кум Гаврюха постарался замаскировать пень, срубленный до того низко, что стоило присыпать его землей, утрамбовать и запорошить вялой травой — и едва ли кто-нибудь точно определит место, где росла березка. Чисто сделал!
Отвязав сбрую и запрягши Карьку, кум Гаврюха отмерил от комля аршин пять-шесть и пересек нетолстый ствол березки, после чего принялся очищать его от сучков. Срубал он их у самого основания и, передвигаясь на коленях, брал каждый сучок и укладывал кучку, любовно приговаривая:
— Эх, лети-мать, ну и венички! Ну и ве-енички! Вот чем попариться-то, а?
Мокрые онучи и сырые штаны, обтянувшие костлявые колени, покрылись прилипшей пылью, но кум Гаврюха не замечал этого. Увлекшись столь важным делом, не слышал он, как сзади подъехал со степи к березовому окоему верховой, не торопясь слез с коня, привязал его к дереву и, ступая на каблук, а потом бесшумно перенося всю тяжесть тела на носок, осторожно — чтоб сухая былинка не хрустнула — стал приближаться к лесорубу. Плетенный в клеточку, как змеиная кожа, хвост нагайки прижат в кулаке к черенку. Могучая рука балансирует в такт шагам.
Хоть бы отвлекся на миг от своего занятия кум Гаврюха, оглянулся бы… Нет, не оглянулся. А нагайка, взвизгнув коротко, полоснула наискосок по сухощавой сгорбленной спине — рассекла низ ветхой рубахи, располосовала на ягодице мокрые штаны. От неожиданности, от резкой боли кум Гаврюха ткнулся подбородком в обух топора. И не успел вздуться на сухой коже багровый рубец, последовал новый удар, а потом еще и еще…
Кум Гаврюха не закричал, а вырвался из тощем груди у него натужный тягучий хрип. Молчал и его истязатель. Слышался лишь ядовитый посвист нагайки да хлесткие удары о жилистую спину бедняги.
— Ну, довольно, что ль? — прогудел из окладистой бороды Смирнов, опуская нагайку вдоль лампаса, нависшего над голенищем.
— Тебе, Иван Василич, виднейши, знать… — едва выговорил кум Гаврюха, с трудом поворачиваясь и пытаясь подняться на ноги. Вид его до того был жалок и беззащитен, что даже звериная жестокость Смирнова перед ним сникла.
— Посади свинью за стол — она и ноги на стол, — забубнил Иван Васильевич, поглаживая кулаком ус и сверля провинившегося колючим взглядом.
Рубаха на куме Гаврюхе, располосованная со спины, висела, как на огородном пугале. Мокрые штаны он придерживал рукой, потому как иначе они не держались. Глаза притаили ненависть и жалкое бессилие против этого беспощадного и властного человека.
— Как же вас пущать-то сюда теперь, коли пакостишь здеся?
— Дык при чем же другие-то? — дергая кадыком, заспешил выговорить кум Гаврюха. — Один же я тута…
— Да еще порыбачил, небось? — указывая на мокрую одежду, спросил Смирнов.
— Не было этого, Иван Василич. Вон хоть в телегу глянь, хоть в озере погляди — снастей и в помине нету.
Видать, куда-то Смирнов торопился: ковырнул в телеге коротким черенком нагайки, пристальным взглядом окинул озеро, сказал:
— Деревинку эту и сучки с нее домой ко мне завезешь теперь же. Да не болтай лишку-то!
— Спасибо тебе, Иван Василич, — всхлипнув, ответствовал кум Гаврюха. — Опчество уважил.
Смирнов направился к своему коню, а кум Гаврюха, едва разгибая огнем горящую спину, принялся укладывать в телегу заготовленные кряжи, приговаривая:
— Вот дык срубил, вот дык сруби-ил, лети-мать, березку… А венички ни к чему теперя… Напарил, изверг… До новых веников чесаться не будет…
Он оглянулся и, увидев, что Смирнов уже далеко и скачет, не оборачиваясь, сорвал с головы картуз, хлопнул оземь и безвольно опустился на колени возле телеги.
— Жизня! — воскликнул он, и скупые слезинки, перевалив через покрасневшие веки, потекли по грязным сухим щекам. — Одним она матерью ласковой доводится, другим злой мачехой оборачивается… Ведь его, аспида, топором бы заместо этой березки — и топор-то в руках был, — а я ему «спасибо» сказал…
Нет, кум Гаврюха не сожалел о том, что именно так поступил, не каялся. Хорошо, ежели все вот этим и кончится, а ну как в ночное не пустят сюда казаки — об этом и упреждал Егор-то Проказин, — тогда свои же мужики загрызут, хоть с хутора беги. И он почувствовал себя связанным по рукам и ногам невидимыми путами, освободиться от которых нет никакой возможности.
— Да кто ж эдакую жизню хитрую выдумал, — затравленно взвыл кум Гаврюха, — чтоб тебя пороли, а ты еще «спасибо» сказывал?! Ах, лети мать, и податься-то мужику некуда!
10
— Господи! — со всей искренностью и сердечностью, как большой, взмолился измученный вконец Яшка Шлыков, поскольку настырный, хулиганистый старичок ни за что не хотел отступать от него и дома. — Спаси, сохрани и помилуй от нечистой силы!
Яшка заметил, что обращение к богу получилось у него складное. В другое время он бы начал повторять его как стихи, как считалку в игре. А тут ему даже и в голову не пришло подобное кощунство. Стал он за эти пять недель и сам смахивать на старичка: взгляд постоянно глубокомысленный, тоскливый, недетский, личико совсем свострилось.
— Да ты, знать, все не спишь? — повернулась к нему на широкой печи мать. — Вставать уж скоро!
— Уснешь тут, — горько всхлипывал Яшка, — он, проваленный, только и ждет, как ты захрапишь.
Пробовала Манюшка спать с Яшкой и на полатях, и на полу, и на лавке, и на печи вот — нигде невозможно скрыться ему от проклятущего старичка. И ведь что удивительно! Лежит Яшка за матерью, перед глазами — потолок, слева — стенка запечная, ну еще край полатей виднеется… Плясать-то старичку вроде бы негде. Так нет же! Для него, нечистого, и пол на уровень с печкой подымается, и потолок малость вверх отходит.
— Фь-юйть! Фь-юйть! — присвистывает он, перстами прищелкивает, сережка в ухе покачивается. И так залихватски, задорно ухаживает по этому для него вознесенному полу, что вот-вот по плечу матери топнет. А она спит себе и знать ничего не знает.
Перехитрить старичка тоже никак невозможно. За многие недели такой вот бесприютной жизни Яшка уж начал сживаться с надоедливым стариком. Страхи прошли, когда уверился, что ничего худшего, кроме осатаневшей пляски, этот ночной гость не допускает. Пробовал с ним разговаривать. Молчит. Голоса не подает, посвистывает иногда только.
Совсем уж Манюшка собралась было к бабке Пигаске — на помощь ее позвать, да в это самое время отступился от Яшки старичок. Ночей пять пропадал где-то, и парнишка успел отоспаться всласть. На глазах поправляться начал, и вот, видишь ли, опять принесла его нелегкая. Но теперь все поняли, что скоро пройдет это несчастье. Устал, знать, старичок…
…Косить Шлыковы начали дня три назад, но пока с кизяком не разделались, на покос ездил один Гришка. А скоро ли одной литовкой нашвыркаешь на двух лошадей, на жеребенка, на двух коров с телятами да на овец? Сегодня и Ванька попросился поехать с братом на покос. Не косить, конечно, — какой из него косец! — а хоть похлебку на обед сварить да воздухом свежим подышать.
В поле отправились ребята ранехонько, чуть свет: лошадей-то в ночное не гоняли, а привозил им на ночь Гришка с покоса травы. Сидит Ванька на потнике да на ватоле, в несколько раз свернутой, но все равно трясет его страсть как. Ноги, обутые сегодня в лапти, вместо пимов, свесил в лесенку рыдвана, и, кажется, вот-вот они оторвутся. Пробовал подвернуть их под себя, так опять же больно, и спиной тогда приходится навалиться на лесенку, а она бьет по острым лопаткам нещадно.