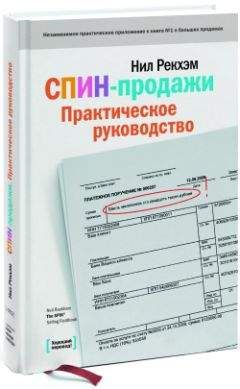Они так и шли, меняясь, впереди машины, у самого ее радиатора, и шофер, изнемогая от усталости, тянул свою полуторку на самых малых оборотах. Когда стали попадаться признаки близкого жилья — зароды сена, штабеля заготовленных дров, — поехали еще осторожнее. В кузове перестали дремать и сторожко смотрели в черноту ночи, сжавшую со всех сторон медленный, по-черепашьи ползущий грузовичок.
Шедший впереди постучал по радиатору, остановил машину. Сказал в кузов:
— Развилка. Карту бы поглядеть.
По карте выходило, что около развилки — чуть поодаль — кончался лес, дорога шла полем и вела к какому-то селению, обозначенному едва заметным кружочком. Название стояло на сгибе потрепанной карты, и от него не осталось ни одной буквы.
Машину свели с дороги, стянули над ней две молодые березы — голые, но ветвистые. Следы от скатов закидали хворостом. Оставили в лесу — в стороне от машины — шофера, Василенка с девочкой и Спиридонова, едва не стонавшего от резкой боли в руке, И, держась обочь дороги, пошли к месту, обозначенному на карте черным кружком.
Селение оказалось большой справной деревней, обнесенной, как все деревни в этих краях, длинными жердяными пряслами. Было безлюдно и тихо, и угрюмые в ночи — без единого огонька — добротные пятистенки выглядели пустыми, давно покинутыми.
Виктор оставил солдат за полуразобранным колодезным срубом, подошел к ближнему дому, потолкался в наглухо запертые ворота, приник к закрытому ставню. Осторожно постучал и, вскинув трофейный автомат, отступил в кусты палисадника.
Пятистенок молчал. Молчала вся затаившаяся деревня, и Виктор раздумывал: постучать громче или пройти дальше? Он выбрался из цепких зарослей не то смородины, не то разросшегося малинника, перемахнул обратно через штакетник и, когда проходил мимо ворот, услышал, как они тоненько, тревожно скрипнули.
Цепенея от напряжения и чувствуя от этого напряжения колкую боль в глазах, он, не отрываясь, смотрел на ворота, искал и не находил ни просвета, ни щели в притворе или подворотне. Ворота скрипнули еще раз, и Виктор понял, что с той стороны кто-то медленно отодвигает засов.
Приглушенно звякнула щеколда: чья-то рука поднимала ее осторожно и мягко. Наконец неслышно, медленно стала отходить в глубь двора боковая калитка.
Какое-то время калитка постояла открытой, словно заманивая жертву, а потом в ее проеме возникла высокая, крупная женская фигура. Помедлила и шагнула из ворот. Виктор отделился от изгороди палисадника и, не опуская автомат, вышел навстречу.
Женщина замерла, слегка качнулась назад, но не отступила, не попятилась. Спросила низким, сухим голосом:
— Кто такой?
— А кого ждете? — негромко и как мог спокойно ответил Виктор.
— Никого, — так же сухо сказала женщина и осталась стоять.
Наученный войной, он все же испытывал неловкость за предосторожность и недоверие к этой своей, русской женщине и потому не стал задавать заранее приготовленные вопросы, а сказал просто:
— Попить найдется?
— Входите, — отступила она, давая ему дорогу. Он помедлил, и она вошла первой, поднялась на крыльцо.
Виктор прикрыл калитку, нашарил ногой первую качающуюся ступеньку, спросил:
— В доме кто есть?
— Есть. Ребятишки... Свекруха со свекром.
Оба остановились на крыльце.
— Вынеси воды.
— Спят все, — чуть насмешливо пояснила женщина. — Я себе в горнице, под окнами, стелю — услышала.
— Спят, так проснутся, — упрямо сказал Виктор. — Вынеси.
— А что выносить? — легонько толкнула она дверь в сени. — Здесь она, в кадке. — И ковшик прозрачно, тихо шлепнул по воде.
Виктор пил огромными судорожными глотками, обливая подбородок и грудь и испытывал такое ощущение, словно ему не хватает рта, чтобы напиться досыта. Женщина стояла над ним, и он мимолетно подумал, что при свете ее присутствие стесняло бы его.
Задрав голову, он опрокинул ковш так, что железный его край холодно и мокро впился в лоб. Подбирая губами последние капли, сказал-выдохнул прямо в ковшик:
— Еще.
Потом он пил уже обстоятельнее, смакуя вкус воды, и чувствовал, как наступает утоление, а вместе с этим возвращаются настороженность, усталость. Ему вдруг показалось, что стоит он здесь вечность, и представилось, как напряженно, терпеливо ждут его затаившиеся за колодезным срубом в пыльном сохлом бурьяне товарищи.
— Зайди вот сюда, в чуланку, — позвала женщина. — Да расскажи, кто такой. Не в дверях же стоять. — И она потянула его за рукав.
Он вошел вслед за женщиной в тесный, без оконца, чулан, на ощупь сел на какую-то лавку, а хозяйка закинула крючок на двери в сенях, плотно притворила чуланную дверь и засветила тусклый фонарь, с каким обычно ходят в темные зимние вечера в стойло.
Виктор осмотрелся: со стен свисали золотистые плетенки лука и аккуратно связанные снопиками и пучками сухие травы. На полках теснились перевернутые вверх дном крынки и чугунки. В углах на полу были свалены половики, мешки и какая-то деревенская утварь.
Он внимательно посмотрел на хозяйку, выдержал ее пристальный ответный взгляд.
— Немцев у нас нет, — прямо сказала она. — И не было. Будут, однако...
Виктор уловил осуждение, но глаз не опустил.
— Вокруг во всех деревнях немцы. Только еще за угором, в Галчихе, нет.
Она скользнула глазами по его грязной солдатской одежде, спросила:
— Ты откуда идешь? — и перебила себя: — Есть хочешь?
— Своих догоняю, — скупо ответил Виктор. — Отстал.
— Отстал... — повторила она. — А остальные, значит, вперед ушли?..
Она поставила перед ним на покрытую клеенкой кадушку чугунок вареной картошки.
— Некогда, — отрезал Виктор. — В Галчихе-то что, наши?
— Нет. Не в самой. На молокозаводе.
— Скажи, как пройти. А картошку, если не против, с собой возьму.
— Не отпущу голодного. — И женщина стала торопливо доставать из корчаги огурцы, обрывать с золотистых плетенок луковицы. Громыхнув железной петлей, вынула из ящика завернутый в полотенце каравай хлеба, разломила пополам. Оглянув выставленную на кадке снедь, рванулась в дом:
— Щи с вечера оставались.
Он задержал ее.
— Ничего больше не надо. Пойду, — и, посмотрев пристально, доверялся: — Не один я.
Тогда она сгребла все в мешок, вкусно пахнувший на него отрубями, покидала туда еще огурцов, луку, картошек, сорвала с гвоздя телогрейку, задула фонарь.
— Много вас?
Виктор промолчал, и она больше не спросила.
— Пойдем сейчас... Детские дачи тут у нас есть, — уже за воротами, надевая телогрейку, сказала она помягчевшим, потеплевшим голосом. — Санаторные. Для малолеток... Детей вывезли, только нянечки наши деревенские остались. Отдохнете, выспитесь, с рассветом на Галчиху уйдете. Мост там снесло. Ночью не пройти.
— А с машиной? — вырвалось у Виктора.
— С машиной хуже. Однако вроде бы брод есть, Ребятишек-то машинами увозили.
За воротами она остановилась, стала вглядываться в темноту.
— Остальных тоже надо позвать. Ты не сомневайся.
Он снова промолчал. Остальные, должно быть, уже пробирались следом: такая была договоренность.
Женщина вела в сторону от деревни, к тому самому лесу, откуда они только что вышли.
Не прошло, наверное, и часа, как все они — и солдаты, и шофер, и Василенок с Красной Шапочкой на руках — сидели на маленьких детских стульях, за маленькими низкими столиками в просторном пустом зале и ели из мисочек сладковатую холодную манную кашу. Ели в темноте, на ощупь, зажигать свет опасались, и так же, на ощупь, орудовали в остывшей кухне санаторные нянечки, выскребая из котлов остатки вчерашнего ребячьего завтрака и радуясь неожиданным находкам: кастрюльке компота, черствым шаньгам, куску сливочного масла.
Дверь в зал постоянно открывалась, в нее все входили и входили женщины, судя по голосам, — и молодые, и старые, и даже простучал деревяшкой старик инвалид в сопровождении двух своих сверстников, и все они тоже садились на крохотные стульчики, а кому не хватало — на подоконники, на пол, или оставались стоять, норовя оказаться поближе к солдатам. Похоже было, что разбужена уже вся деревня и добрая половина ее сошлась здесь.
Женщина, которая привела их сюда, взволнованно и суетливо хозяйничала: не осталось и следа от ее холодной сдержанности. Она командовала и своими подружками, и солдатами, покрикивала на стариков, которые и без того охотно делились с фронтовиками едучим, горьковатым самосадом.
Потом, много дней спустя, уже в своей части, вспоминая проведенную на детской даче ночь, прозвали они эту энергичную, переполненную заботой и горем женщину Командиршей. А тогда окликали ее, как все деревенские, — то Варварой, а то Матвеевной.
Командирша турнула несколько баб в бельевую — глухую, без окон комнату, — велела там засветить лампу и «обштопать» солдат. По ее требованию парни беспрекословно стянули с себя и отдали женщинам починить кто — рваную гимнастерку, кто — расползшуюся по шву шинель. Виктора она, не церемонясь, заставила снять совсем новенькие диагоналевые галифе, сучком или еще чем располосованные на самом видном месте.