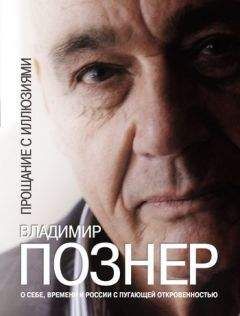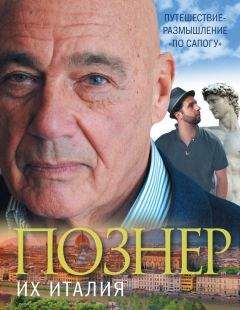День начинается рано. Ищутся. Давят на ногте жирных вшей; их зовут буржуйками. Ах, как они хрустко потрескивают под упорным ногтем. P-раз! Ночью была охота.
В общих просыпаются раньше, чем в одиночках. Но во всей галерее один петух: тявкают железно глазки душных ящиков, и по коридору староста трещотит скороговоркой:
— Кки-пяток, кки-пяток, кки-пяток…
Скрипят жадные фортки в дверях, истомленно ползут к водопою манерки, кружки и прочая посуда — под струю пудового медного чайника, здорового и рыжего, что дойная корова.
— Кки-пяток, кки-пяток, кки-пяток…
И уже до ночи не уняться жизни. И если бы не было этих петушиных вскриков, человек подтянул бы шею гашником и…
Да разве только в галерее? Разве только она отличительна этим?
Мимо галереи идя, думаешь: как-то там?
Онемелый дом, грязные стекла под решеткой. Наглухо фортки. У ворот иль в полосатой будке спит караульный, прислонив к стенке нечищеную берданку.
Могила.
А издали, на несколько верст от города, когда подъезжающий поезд сердито гремит, треща на ржавых стыках и стрелках подъездных путей, точно лавируя в паутинном ажуре семафорных проволок и тупых семафорных будок, ажурных столбов, ахая, лая — мимо коротких фонарей, — что видно тогда из окна:
Городской пустынный выгон, вонючую свалку отбросов, а за ней небрежно скинутую охапку домов — и еле-еле курится над охапкой черный дым, охапка тлеет.
Могила.
Но вот ближе — глотаетесь недрами — и жизнь свою на миллион разбрасываете мелочей; и онемелость, и могила, как роса под солнцем, неслышно, невидно скрываются, без намека на то, что были, что есть. Только тысячи и миллионы петушиных вскриков.
Так в галерее к полудню:
— О-бедать… О-бедать… О-бедать…
И опять манерки ненасытно льнут к жадным форткам.
А в другом конце петушится иное:
— На-про-гулку… На-про-гулку!.. На-про-гулку…
Или сырое, приятное:
— Вба-ню… Вба-ню… Вба-ню…
Часы на колокольне развертывают длинные тягучие звоны мерно, медно и долго — не раз, не два, а больше и жалче… и в коридоре галерейного корпуса перебивает унылое, то, что осталось с обеда, разбуровленное водицей, но парные пахучие ушаты, так же как часы, звонко побрякивают:
— Уж-жин-нать… Уж-жин-нать… Уж-жин-нать…
Похлебав, день уляжется на нары, в рубахе поищется, жирных буржуек расстреливая.
Еще одно звено — и правильно сопряженный, размеренный день, дождавшись последнего, к ночи, петушиного вскрика, смыкается в правильное кольцо.
За четверть часа перед тем, как потушить свет, крик приятно горяч; такой же, как и поутру.
— Кки-пяток, кки-пяток, кки-пяток…
Ночь-забытье, вшивый зуд, урчанье в животе.
Голодная пайка — жрать нечего.
— Жрать нечего, жить весело. Ты бы, телячий сын, в брушлатиках походил по Сибири. Действительно, перебило бы кармашки. А тут что ноешь?
Так подзуживал новичка налетчик Галка. И, подглядев его слезы:
— Чего, шишбала, чего ты?
— Мамку, знаешь, вспомнил. Научала. Живи, говорит, Митюша, честно; боюсь, говорит, вашей теперешней наживы. А я ей: мамка, говорю, нынче все воруют… без воровства помрешь.
— Ну, от живота у тебя тоска, на — поешь, — ласковым стал налетчик Галка, и даже вихор у него подобрался, не топорщится, — ты… чего там, мамка…
— Боюсь, говорит, вашей теперешней наживы.
— Ладно, ладно. Как к языку потянут, ваньку валяй. А коли не выгорит, ноги щупай, ты под слабым, утечь легко. Понял, братишка.
Мы, братишка, тебе документик состряпаем. Честь-почесть, с чекушкой.
Сердитый старик, распухший от водянки, зло укоряет Галку:
— Учи, учи, хамло! Не слушай его, паренек, он тебя к машинке подведет. Куда побежишь? Челдон… чему парнишку учит… о-ох…
Он зевает и крестится.
— О-оо…
И опять крестится.
Галка, не обидясь, наклоняется к парнишке, шепчет на ухо:
— Не любит… Майданщик старый. Я в ростовской его надул. До революции было. А ты, братишка, не гляди на него; ему, тельячему сыну, все одно, где подыхать.
Галка, поджавшись, уселся на корточках; ковыряет между пальцами на босых ногах, вытаскивая ссохшийся черный пот. Свернет катышек, понюхает, бросит — и опять снова, свернет и бросит…
— До революции еще было… Я сижу сейчас и участи жду. А кто делал революцию? Они, что ли? Они? Нет, чертов корень, революцию делали мы. А они газетки печатали. А что в ихних газетках: долой… долой. Только и знают. А работаем мы. Я работал!
Кулаком бацнул по доске — треснула.
— Они газетки печатали, а я на юге ра-бо-тал! Жидовку одну богатую раз сгреб за галстук, где, говорю, телячья дочь, твои капиталы. Молчит. Нажал на нее. А она молчок. Смотрю — а у ей и дух вон. Ледащие они, эти буржуйчики. Благодарность комиссаровскую получал. В партию предлагали. Да нет, братишка, сноровки у меня к хомуту. Вот и жди теперь участи.
Тухнут открытые ночные беседы; и под нагретым зипуном в тысячный раз передумывается одно и то же: о мамке или революции, о голодной пайке и побеге…
А тот, кто в одиночке — 3x5, — о чем тот думает?
На воле купается луна. Не мечта ли смотрится в окна, томная и бледная, нежно припадает к нарам, целует Цукера в колючую рыжую щеку?
Морской житель, вспоминая пируэты Петипа, кружит в камере, пока не пристукнет надзиратель кулаком. Тогда ложится морской житель и выкидывает над нарами антраша ногами…
Он не житель, и нет нар…
Беппо на бочке… пустынная итальянская плошадь… Камни из картона… Камни из картона… Камни из картона!
Солнце — прожектор…
Беппо бежит… Что это расшумелись паладины?
Иль звон мечей на поединке под воротами Святого Бонифация?
Нет!
Нет!
Ночной ружейный лязг. Ночной лязг замков. Ночной лязг ключей.
Ночные подкованные шаги в коридорах.
Неужели вызывают? Кого?
Меня или того?
Того! Пусть того! Хочу того! Господи Иисусе Христе, дай, сделай, чтобы того! Не меня, а того!
Помертвело деревянное сердце. Одинаковое у каждого. И каждое выговаривает один и тот же стук:
— Дай, Господи, чтобы того!
Страшен скрежет замка среди ночи — он смертелен, потому что скажут:
— Вещей не надо!
Скажут холодно:
— Вещей не надо!
Как ледяная вода…
Там есть место… рассказывали, что есть такое… за стеной, в Репейном логе, сквозь чугунную дверь по покатой тропке… на желтую реку.
Проснулся Цукер. Втиснулся ухом в лязги.
Что это? Сон… Детство, когда пархатым жиденком вылавливали его в костеле, забившегося в мрачную нишу под распятием… костел в Радзиливилишках… орган… молитва холодная и важная… Те Deum…
— …именем революции!
Вытягивает за уши церковный служка.
Нет! Нет! Он просто представитель кооперативного союза. Но крик басами заглушает орган.
— Именем революции!
О, Ганоцри… нет, Ио, Ио-Ганоцри, что ты, кого ты хочешь… не меня, а того!
Галерея беснуется и воет, сжав зубами одеяло или зипун.
А молитва безжалостна.
— Именем революции…
Вой разбил стены, треск заглушил ружейные лязги. Шпана дерется между собою досками от нар.
Среди гама петушиный вскрик.
— Коммунара дай! Кто хлеб резал?
Ищут ножик — запретная в галерее вещь.
Шпана в кровь бьется друг с другом. Вой резче, громче, больней. Надзирательский свисток — ребенок среди свалки.
— Э-эай… сво-лаачь!
Надзирателя доской. Кто под руку? Солдат! И его доской. Хрустят черепа. Звериной стаей на стаю, сжав рот, закрыв глаза, молотят кулаки.
Мерно прикладами воинский взвод расквасил кучу; загнал арестованных, избитых и вспуганных, под нары. В камеры пустили свет… щепки, лохмотья, красные брызги…
У дверей в жженых шинелях безучастные парни, в серых папахах, лениво оправляют берданки за плечом. Не дубины ли у них вместо берданок? Все стихло.
Во время нарочной драки, пользуясь суматохой, должен был удрать смертник Галка. Полет сорвался…
Галка, зажав в кулак разбитый нос, из которого ключом льется кровь, гнусит:
— Братишки! Нету больше революции, антилегенция слопала. Прощайте, братишки, налево иду!
Сосед Галки плачет, но Галка ржет; наклонившись к опухшему от водянки старику, он сует ему сапоги.
— Променяй на хлеб… малость напоследок закусить.
Старик, как старый жирный холощеный кот, отворачивается от Галки, перекатываясь на другой бок.
— Сапоги все равно здесь надо оставлять. Вещей тебе не надо.
— Так не дашь? Кусочек…
— Здесь все равно сапоги оставлять.
— Не дашь?
Старик плотнее завертывается в байку.
— Жиган чертов! Братишки…
Визжит Галка уж не своим, а чужим голосом, поросячьим визжит:
— Налево иду! Делитесь, братишки, недвижимым моим. Кусочек хлебца! Закусить…