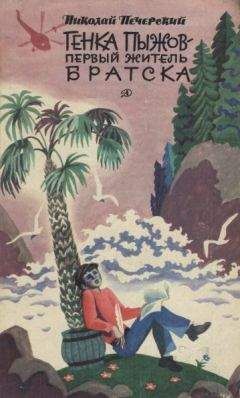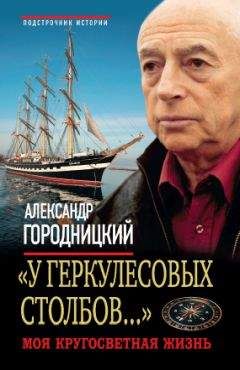— Вы здесь постойте, — сказала Клава и скрылась за дверью. Галя прислонилась к перилам, Андрей стоял возле и нервничал: скорей бы…
Вышла грузная женщина, невероятно широкая в бедрах. От нее пахнуло на Андрея кухней, запахом водки и еще неведомой ему, безрадостной жизнью. Его охватил страх. Что помешает этой женщине подтвердить то, чего не было, кто опровергнет ее слова?..
— Ну, он? — вывернулась Клава из-за плеча женщины.
— Не, — скучно ответила та, задержав взгляд на Андрее. — Я его не знаю.
Клава оживилась.
— И я говорю — быть того не может. А проверить надо… Галька мне вместо сестренки. Ладно, вы уж идите, а я тут поговорю еще…
Они остались вдвоем на лестничной площадке. Галя стояла, прислонясь к перилам, понурив голову, в белом пушистом платке. Андрей подумал, что ей стыдно, заглянул в лицо и увидел смущенную и все же торжествующую улыбку. Он засунул руки в карманы пальто, плечи его вздернулись.
— Ну, пошли? — сказал сухо, неуважительно и первый, не оглядываясь, стал спускаться по лестнице. Ему было плохо, очень плохо, и он сам еще не знал, почему. Он доказал, что хотел, и что же? Ощущения победы не было. Не было и радости, хотя Галя — его Галя — послушно шла за ним, скользя варежкой по деревянным перилам.
Двор был все так же пуст, только в нем загустела темнота. Зашуршал под ногами подмерзший снег.
— Андрей…
Галя дернула его за рукав. Обычно они ходили держась за руки.
— Ну, Андрей… Ну, нет у меня никого. А про студента это Клавка придумала. Она меня к соседке услала, когда увидела, что ты идешь. Соседка рукавички вяжет, вот и мне связала. Красивые, правда?.. Ну, Андрей…
Она вытянула его руку из кармана и ласково сжала в своей. В этом ее пожатии, длительном и многообещающем, и признание вины своей, и мольба с прощении, и возвращенное доверие. А он мучился от жалости к ней, такой притихшей и покорной, и с тоской вглядывался в себя. Казалось, его обокрали. Сосало под ложечкой от предчувствия, что завтра он проснется и чего-то очень важного, светлого уже не будет, А что он теперь возразит мужчинам, которые у верстаков, обитых железом, с привычной горечью говорят о женщинах, что противопоставит их жестоким словам? Он пытался успокоить себя. Может, это только сегодня, а завтра все будет по-прежнему? Может, утраченное еще вернется, вновь наполнит каждый миг его жизни?..
А Галя снова была счастлива, даже больше, чем прежде. Для нее все было ясно. Ведь Андрей просто-напросто обиделся. Ничего, отойдет. Обиды его коротки, уж она-то знает. Она сумеет сделать его покладистым и ласковым, как раньше.
Свадьба все не начиналась. Ждали родственников невесты — сестру с мужем, которые ехали будто на своей машине из-под самой Москвы. Не мог прийти раньше вечера и кое-кто из своих, климовских, в основном механизаторы: время у них было горячее — сев. По этому поводу некоторые пожилые гости, все больше колхозники, сетовали:
— Да в прежние годы сроду в мае свадеб не играли считались. Чай, и теперь бы потерпели.
Родня жениха, Вальки Терехова, второй год возившего редактора и сотрудников районной газеты, ершилась:
— А нам что? Мы, чай, теперь городские! У нас круглый год свадьбы. А чего тянуть? И праздник как раз — День Победы. Пусть всю жизнь помнят, когда расписались.
Тем временем в «холодной» — небольшой комнате с голыми стенами и заново убранной, перенесенной сюда из передней кроватью — свершалось некое старое, полузабытое деревенское «действо». Тёща, свекровь и еще какие-то настырные бабки завели сюда молодых и теперь пытались поставить их на одну половицу.
— Как встанете, так и заживете, — приговаривали они.
Жених, красный и неловкий, в черной, жесткой от новизны паре, ухмылялся, бормотал: «А ну вас к ляду…» и старательно сводил вместе широкие ступни в новых скрипучих полуботинках, жал их одну к другой. Невеста, с утра ходившая в неразношенных туфлях, попробовала было уместить их на одной половице, но пошатнулась, едва не упала и заплакала от всего сразу — от смущения, многолюдства и неудачи своей, сулившей плохое житье.
— Да отстаньте вы с суеверьями своими! — крикнула, вырываясь из цепких, сучковатых старушечьих рук.
— Половицы нонче не те, — посочувствовала ей одна из зрительниц. — Прежде широки были, а теперь, что ни год, все ужей да ужей. Мудрено теперь на одной-то устоять…
Борис Стручков, прозванный на фабрике Корешем за коренастость, медлительность, а больше всего — за супротивный характер, протолкался обратно на крыльцо, оглядел гостей, собравшихся кучками там и тут, и вздохнул от тяжести, что лежала на сердце. Он с женихом успел уже «шарахнуть по маленькой» и наскоро закусить в кухне, где стояли ящики с водкой и вместительные миски с закуской. Валька, заметив его издали, мигнул, мотнул головой на дверь и только там уже, за столом, спросил:
— Чего на росписи-то не был? Мне пришлось другого свидетеля подбирать…
— Да работа моя проклятая! — ответил Борис, пользуясь случаем выговориться. — Ни праздников, ни выходных нормальных.
— Зойка сегодня психованная какая-то, — будто не слышал Валька. — Ей втемяшилось, что ты против нее, чуть истерику не закатила…
— Зато я закатил… Поругался со своими, а то бы и к ночи не пришел…
— Да ну, — поддержал наконец Валька.
— Нам сегодня старая машина досталась, англичанка, английская еще… Избились мы с ней. Я и так уж торопился, барабан не доглядел, а он распаянный. Они все на меня — как, почему? Я плюнул и ушел…
— Ну, будем, — сказал Валька, выпил и, прожевывая хлеб и огурец, спросил нечетко, как же он, Борис, теперь будет.
— А не знаю. Да все равно мне. В другую бригаду перейду… Знаешь, ни к чему душа не лежит.
Кореш наладился было на серьезный разговор, но Вальку позвала теща. Тот торопливо опрокинул еще рюмку, схватил закуски и с оттопырившейся щекой и собачьими глазами выскочил в коридор.
После выпивки хорошо стало, весело, но настрой этот скоро свернулся от тягучего ожидания, хождения туда-сюда и надоевших разговоров о том, куда заворачивают деревню: от кукурузы этой пока три былинки-хворостинки, а травополку нарушили, куда деваться?
Со скуки Кореш покурил, и теперь во рту у него было кисло, а в желудке пусто: ведь он по-настоящему так и не ел.
Уйти бы, до свадьбы ли с таким камнем на сердце, но вот-вот должны подъехать…
Долгий весенний день нехотя клонился к вечеру. Тени домов и деревьев спустились по холму в сырой, по-весеннему дымный лог, покрытый короткой, как ворс, мягкой травой. Над ним, по противоположному склону, стояли березы, и стволы их девически нежно розовели в низком закатном свете.
На завалинке дома, назначенного под свадьбу, стеной теснилась сельская детвора — цеплялась за потрескавшиеся облупленные наличники, влипала мокрыми носами в стекла, щебетала, как стайка воробьев. Видно было освещенную ярко залу с накрытыми столами, выстроенными вдоль трех стен. Борис тоже заглянул туда поверх ребячьих голов, сглотнул слюну и, спустившись с крыльца, побрел, заплетая ноги, вдоль поредевшего ряда домов. И здесь: на тропе, у колодца, у крайней изгороди, за которой темнело жирно до самого дальнего перелеска вспаханное поле, ждали гости. Они курили, разговаривали, неловко посмеивались и смотрели на дорогу, что втекала в деревню чуть ли не из самого заката.
Борис тоже постоял на выезде, припоминая против воли, как побагровел бригадир, когда закричал на него, как вздулась толстая жила на его шее. Завтра у ремонтников выходной, а вот послезавтра трудно. Надо решать, куда податься. На поклон к бригадиру Анатолию Соколову, прозванному Рыбниковым влюбчивыми прядильщицами за улыбку белозубую и легкий нрав? Да только ли ему кланяться — и Маянцеву Ивану, и Володьке, и недомерку этому, ученику ремонтника Сверчку. Нет уж, лучше попроситься в другую бригаду. Врешь, не лучше. Это же перебежчиком быть, а перебежчиков не любят, не уважают. «Дурак!» — выругал себя Кореш. Как бы хотел он сейчас очутиться на месте москвичей, в урчащей удобной машине, но держать путь не сюда, в Климово, на свадьбу, которая на два дня оживит хиреющую деревню, чтобы потом еще пуще опустошить ее и ввергнуть в однообразие долгих весенних дней с приукрашенными россказнями об этой свадьбе, медлительным скрипом колодезного барабана и ожиданием родных из города. Да пропади все пропадом! Он бы мчался обратно, на гаснущий под сивым пеплом алый пояс вечерней зари, к большому, сияющему городу, над которым скоро встанут праздничные огни салюта. Там сейчас люди толпятся на Красной площади, на мостах и балконах высотных зданий; у трех вокзалов продают красные и черные степные тюльпаны, и девушки, красивые, как кинозвезды, ищут его в толпе. Они знать не знают об этой сельско-городской свадьбе, ставшей событием на территории целого сельсовета, о фабрике, прядильной машине системы «платт», да и о нем, Кореше, тоже.