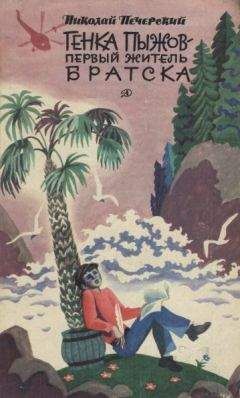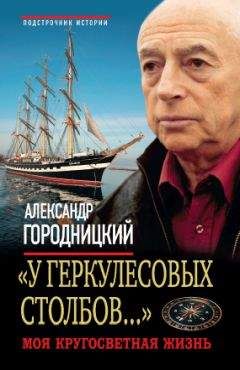— Приходите еще. Вы очень оригинальный, очень!
Он в ту ночь долго не мог уснуть, наверно, от трех чашек черного кофе с коньяком: думал об Эмме и о себе, и собственная жизнь предстала перед ним скудной и жалкой, как деревня в конце осени, когда голы и неуютны и земля, и сады, и низкое бледное небо над ними, и дома, почерневшие под дождями. И в самом деле, какие радости знал он? Вырастая среди осиротевших на годы и годы женщин, стариков, детей, чьи руки и минуты не могли полежать спокойно, разве только в коротком глубоком сне, какой бывает после целого дня работы, он привык считать радостями то же, что и они: весточку с фронта, полное подполье картошки, которую зимой не поморозило, а весной не залило, удачно проданного телка, хорошо уродившиеся клевера, за счет одного труда доставшиеся сено и дрова, яростную грозу с градом, что над колхозным полем взяла вдруг, милая, и повернула на бибиревскке леса; урожайную осень, удачную рыбалку, обнову какую-нибудь, выкроенную из старой отцовской одежды… Чего много было в его детстве и юности — так это заботы. Навалом было ее и у братьев его, и у сверстников. Мальцом еще убирал за скотиной, которой был полон двор, таскал воду от колодца, сначала в бидонах, потом в ведрах, копал неподатливую после зимы, глинистую землю под картошку, подавал старшим дранку на крышу, проворно, как обезьяна, поднимаясь и спускаясь по приставной лестнице, навивал стога в горячие июльские дни… О каких-то там удовольствиях и думать было некогда, да и небогато было в деревне с удовольствиями. После семилетки запустили его в колхоз, там та же работа, но и дома от забот не освободили, даже добавили, поскольку вырос, мог и потяжельше дела поднять. Во всех фряньковских семьях было так: один на фабрику шел — чистые деньги приносил, а другой за трудодни работал, и жила тогдашняя деревня как бы на трех опорах — колхоз, фабрика, личное хозяйство, трудно и неутомимо добывая себе достаток, успевая еще и город кормить.
Теперь, оглянувшись на все это, Борис пришел к мысли, что он и не жил по-настоящему. Ему стало обидно. Ну, почему так? Разве он не ломил за троих, разве не заработал все то, чем, пальцем не шевельнув, потому только, что родили его в огромном щедром городе, пользуется лощеный Владик? Никак Борис не хотел принять такую несправедливость судьбы. Он осторожно прощупывал, примерялся, нельзя ли зацепиться в Москве. Жениться на Эмме? Та рассмеялась, едва он заикнулся об этом, глянула вдруг издалека, будто царевна на Емелю, и повторяла его «предложение» как анекдот тому же Владику, сестре, подругам, всякий раз подчеркивая:
— Вы представляете, а? Вот юморист пропадает!
Он и верно — пропадал ни за грош.
Как-то Эмма повела его на концерт сестры, вернее, на концерт певца, которому сестра аккомпанировала на рояле. Слушателей собралось немного, и Борис понял, почему их мало, как только увидел певца — рыхлого, с мучнистым лицом, старого, во фраке, с напряженно поднятой коробом крахмальной грудью. Это было одно из последних его выступлений, уже скромных, рядовых, на краю где-то концертной жизни Москвы, а ведь перед ним были, наверно, и томящие сердце надежды, и малые успехи, обещавшие желанный, необходимый — большой. Как только этот человек запел, Борис утратил жалость к нему. Он не пел — он трудился, выдавливая из себя голос, упираясь нижней челюстью в морщинистую, вялую, словно тряпичную, шею. И голос у него был слабый, бескрылый. Борис «дотерпел» концерт, а на улице сам первый заговорил о том, о чем не решался прежде судить в кругу московских знакомых:
— Жалость одна — не пение. Я за него измучился. Ты бы послушала, как у нас, на деревне, поют. От всего сердца поют.
И, может быть, потому, что впервые он высказался так убежденно, тоже от всего сердца, Эмма не свела все на шутку. Глянула искоса, серьезно и — остановилась.
— Что ты знаешь о нем? О нас всех? То, что дома мы веселимся?
— У вас вся жизнь веселая, — ответил он, вспоминая сразу свое Фряньково, бедные вечера его с картами, семечками, в лучшем случае с гармошкой или книгой, и загульные праздники.
Эмма схватила сестру за руку и показала эту руку Борису.
— Вот, смотри. Мозолей на ней нет, но это еще ничего не значит.
— Оно, конешно, — нарочито по-деревенски, зло возразил Борис, — на фортепьянах играть — не картошку копать.
— Два месяца репетиций по четыре-пять часов. Занятия дома — часы несчитанные. Чудак, он нашей жизни позавидовал!
— Да ладно тебе, — остановила Эмму сестра, — Он иначе на все это смотрит. Вот наш автобус, бежим.
— Неправда, — запальчиво крикнул Борис им вслед. — Я эту вашу жизнь выше деревни никогда не поставлю! Что бы вы были без нас? Мы — корни, а вы — листья!
Крикнуть-то крикнул и загордился, будто правду-матку выложил, но в душе-то, в сердце своем давно поставил эту их легкую, яркую жизнь выше фряньковской и негодовал, что не принимает его она, выталкивает назад, в деревню, к земле и коровам.
Уже перед самой демобилизацией армейский дружок повел Бориса на спектакль, в котором была занята Эмма, — на древнюю трагедию: женщина, мстя покинувшему ее мужу, убивала своих детей.
В антракте дружок спросил:
— Ну, узнал Эмму?
— Ее вроде не было.
— Как — не было? Выходила несколько раз. Она в хоре. Среди тех девушек, что выносили маски.
— Ну да…
— Выйди вон в ту дверь и убедись. А я пока пива куплю. Жду тебя в буфете.
Борис вышел в боковую дверь фойе и оказался в небольшом дворике с клумбами и декоративными кустами. Там, у служебного подъезда, стояли девушки с неестественно розовыми лицами и высокими необычными прическами, в длинных и странных белых одеждах; некоторые из них курили, другие, держа перед собой маленькие зеркальца, пудрились или подводили глаза и губы. Все они, казалось, и теперь еще играли, были какие-то нездешние, не нынешние, и каждая могла оказаться Эммой. Он не стал подходить к ним, словно и теперь еще рампа отделяла его от них.
Был уже май. Через несколько дней Эмма уехала на гастроли, а еще через месяц Борис вернулся во Фряньково и узнал, что стал городским человеком: деревня теперь называлась улицей Кудряшова, к ней вплотную подступил новый район города — одинаковые ряды одинаковых двухэтажных домов, вставшие на бывших картофельных участках.
— Кто хоть этот Кудряшов? — без всякого действительного интереса, просто чтобы выразить недоумение свое, допытывалась мать. — Среди нашенских сроду Кудряшовых не было.
Фряньково, внешне такое же, на самом деле стало на себя не похоже. Казалось, все здесь глотнули «московской жизни». Дружки Бориса — прежде трудяги из трудяг — отработав на фабрике положенные часы, в остальное время баклуши били. У них вдруг оказалась бездна свободного времени, и они не знали, что с ним делать. Средний брат женился, купил у съехавших соседей дом, возился то на огороде, то во дворе — упрямо и насупленно, но в заботах его не было уже прежнего доброго смысла — одна жадность, скопидомство одно. Старшего он называл пьяницей, отлетом, тот и верно частенько бывал навеселе, запустил себя, мог всю ночь проиграть в карты и прогулять, вернее — проспать смену. Ветшал и заваливался на бок дом их матери, в котором все они выросли. В хлеву вместо скотины стоял громоздкий, мертвый, чужой всему здесь, грязный мотоцикл, именно он теперь был тут хозяином, а не корова, наполнявшая прежде двор своим широким добрым теплом, немудрящей, но такой необходимой жизнью своей. Дюжина куриц, квохча, бродила возле мотоцикла, неслась где попало, лезла на крыльцо и в сени, но эта мелкая суетная живность только усиливала пустоту вокруг. Мать одна теперь числилась в колхозе, жаловалась на голые трудодни, неправого председателя, на то, что некому покрыть крышу свежей дранкой, что магазинным никак не насытишься: молоко жиже, мясо хуже, только жир да жилы. Остановилась деревня в растерянности, обмелела, забурьянела, будто пустырь. Все мало-мальски молодые, здоровые работали в городе, а в колхозе оставались одни старики да старухи.
Борис, и без того места себе не находивший, пытаясь уразуметь, что случилось здесь, пока он служил, стал слушать, о чем говорят вокруг. Говорили о разном то с ехидцей, то с болью, то просто посмеивались. Например, про гражданина в берете и дорогом тонком пальто, «с портфелем о двух замках», что как-то в марте залетел в эти места на день-другой. Он рассказывал, что неподалеку снимается фильм по книге Льва Толстого «Война и мир», там лошадей много держат, а им сена надобно, вот, дескать, примите участие в создании шедевра киноискусства. Сена он, конечно, ни клочка не добыл — к тому времени колхозных коров соломой пичкали, завезенной из Ставрополья, но посеял кое в ком из мужиков некую шелушащуюся гордость:
— Видал? И кину без нас не обойтись.
Бориса смехотворная гордость эта обозлила.
— Что толку-то? Много вы видите это кино, много живете им? Когда в последний-то раз в кинотеатр бегали? Наверно, на «Кубанских казаков»?