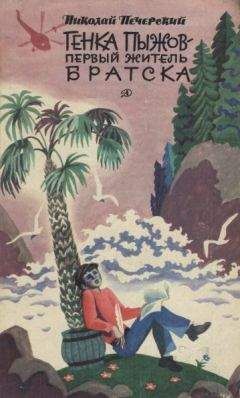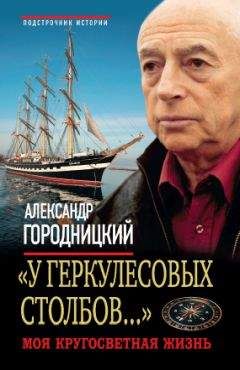Но Долька смотрел на эту серую толпу. Я решил, что он все-таки разыгрывает меня.
— А ну тебя! Я пошел.
Долька не ответил. Мне кажется, он даже не услышал. Серая толпа приблизилась, вся выступила из поземки и стала буро-зеленой, под цвет одежды этих людей. Они двигались по четыре в ряд. На одних были старые, облезлые ушанки, на других — матерчатые, странной формы фуражки с козырьками, длинными, как гусиные, клювы, и короткими закругленными наушниками. Ноги их были в обмотках и грубых башмаках. Если бы не этот странный наряд и не солдаты в полушубках по бокам колонны, они бы сошли за дорожных рабочих, потому что над плечами их раскачивались ломы, лопаты и кирки. Но самое главное — они были иззябшие, худые, большеносые и никак не походили на тех, железных, в белых плащах, с холеными заносчивыми лицами.
Я смотрел на Дольку. Он стоял, засунув руки в карманы фуфайки, сжав рот, отчего лицо его стало мстительным и злым. И я поверил. А немцы шли по главной улице нашего города, и все их видели, и никто их не трогал! Они переговаривались между собой: губы их двигались, слова клочками пара таяли в воздухе. Один курил цигарку, свернутую из газеты. Другой так загляделся на румяную и круглую деревенскую девушку, что едва себе шею не вывихнул, — идущие сзади подтолкнули его и загоготали. Все это было похоже на сон. Они шли и никого не трогали, и были это самые обыкновенные люди. Один даже смахивал лицом на дядю Степана — отца моего соседа Генки Старшева!
Я его потому заметил, что он выступил из рядов и обратился к сопровождающему солдату. Он лопотал что-то, тыкал пальцем себя в грудь, а другой рукой показывал на деревянный павильон. Солдат нахмурился, но кивнул, и фриц побежал к павильону. Долька тут же ухватил меня за руку и кинулся следом.
Это была одна из тех забегаловок, в которых все пропиталось запахом пива. Снаружи павильон выглядел сносно, но внутри было темно, грязно и тесно. Здесь целый день толпились мужчины: пили, дымили вовсю, говорили громко и хрипло, восседая на мокрых тяжелых бочках. Пол был скользким от пивной пены. Ее сдували с кружек, и она тяжело шлепалась на доски. От табачного дыма воздух был сизым. Пахло пивом, потом и махрой. По ту сторону стойки хлопотала толстая женщина с багровым лицом и зычным голосом. В белой пятнистой куртке, напяленной поверх пальто, она выглядела живой пивной бочкой.
Мы вбежали сразу же за фрицем. Мне вдруг показалось, что все эти люди сейчас увидят чужого и мокрого места от него не оставят. Ничего такого не случилось.
Фриц пристроился в хвост очереди и затопал ногами. Мужчины, сидевшие на бочках лицом к нему, рассмеялись.
— Что, не по нутру наша зима, а? Ферштейн, а? Мороз — капут мороз!
Немец заискивающе улыбался, кивал.
— Найн-найн. Мороз — пле-хо…
— То-то же. Будешь знать русскую зиму. У вас в Германии она не та. Вроде нашей осени. Мокреть одна.
— Он ее уже узнал — нашу зиму, — зло сказал кто-то из угла. — Под Москвой. Помнишь Москву-то? Москву, спрашиваю, помнишь? Помнишь, как я вас, гадов, косил?
Голос становился все ожесточенней и тише. Под конец он перешел в придушенный шепот. Сомкнутые плечи сидящих впереди раздвинулись, как будто, кто расколол их, и вслед за голосом выдвинулась рука с костылем, а за ней — короткое коренастое туловище с крупной косматой головой. Среди темные сапог и валенок ослепительно, мертво забелела грубо обструганная деревянная нога. Выступило из мглы и лицо, такое же худое, как у фрица, обросшее щетиной, со взбешенными глазами.
— Москва, — печально и глухо повторил фриц. Взгляд его был прикован к деревянной ноге.
Приятели перехватили инвалида за руки.
— Будя, Петрович, будя. Они сполна получили.
Петрович рванулся, опрокидывая пивные кружки, стоящие на бочке.
— Пустите!.. Не могу я… Не могу я с этим гадом вместе!.. Как к себе пришел… Ты бы тогда ко мне так вот пришел. Я бы тебе зубами глотку… перервал…
Он сбросил руки, снова повисшие на его плечах, и, опираясь на костыль, как на палку, заковылял к двери.
С минуту все молчали. Тишину нарушали только посапывание насоса да звон кружек. Первым заговорил немец. Он вскинул голову и заговорил торопливо и виновато, обращаясь ко всем сразу. Чужая тарахтящая речь наполнила павильон. Один раз фриц повернулся и протянул руку к Дольке. Долька враждебно отпрянул. Многие оторвались от своих кружек. Одни смотрели на немца, приоткрыв рты, другие насмешливо переглядывались, и только мужчина в галифе и кожаных сапогах слушал внимательно, с интересом. Все это вскоре заметили и начали потихоньку выспрашивать:
— Чего он?
— Что он там лопочет? Небось, оправдывается?
— А что ему еще остается?
— Погоди, дай послушать… Ага… Не виноват я, говорит…
— Вот-вот, еще кому скажи.
— Мы, мол, люди подневольные. Погнали нас и все… Он пивовар, значит. Жинка есть и киндер… Не знает, живы ли… Мальчик такой же вот был…
Немец заторопился, пил частыми большими глотками, пил так, что в горле у него булькало и попискивало. То ли по пиву он соскучился, то ли время его подгоняло. Наконец, он оторвал пустую кружку от губ, поставил ее в лужицу на буфетной стойке, пробормотал что-то по-своему и повернулся к выходу.
И тут произошло такое, чего я никак не ожидал. На пути пленного встал Долька. Тот его заметил и наклонился к нему, и весь как-то подобрел, оттаял. А Долька крикнул ему в слезящиеся глаза, в наклоненное, остроносое, готовое улыбнуться лицо, крикнул изо всех сил, словно выстрелил в упор:
— Сволочь, фриц поганый, гадина!
Толстая буфетчица ахнула, немец надломился, словно от жестокого удара поддых. Бледные губы его сморщились. Он вышел, забыв притворить за собой дверь, и февральский студеный ветер ударил по моим ногам. Долька весь дрожал. На лбу у него выступили капельки пота, на щеках затемнели два расплывающихся красных пятна.
Мы выбежали из павильона. После душной и спертой полумглы матовый зимний свет щемил глаза.
Долька растерянно остановился у палисадника. Казалось, до сих пор была в нем какая-то нетерпеливая сила, вроде скрытой пружины, которая толкала и толкала его вперед… А сейчас он не знал, что делать. Он топтался у палисадника и медленно приходил в себя. Как раз шла смена. Люди то и дело задевали Дольку, кто-то грубо пихнул его с дороги, но Долька даже не огрызнулся. Он упорно смотрел в ту сторону, куда ушел фриц. Тот пересекал мостовую. Длинные ноги его ступали неуверенно, деревянно. Немец зябко поеживался под обжигающим ветром. Он поднял воротник шинельки, но воротник был короток, и оголенно торчала из него тощая шея.
— Это ему за папку, — сказал Долька.
Я промолчал. Мне было жаль фрица. Это был совсем не тот фриц. Это был человек, похожий на однорукого дядю Степана, только обе его руки целы. Он получил свое сполна. Долькина месть и ненависть Петровича предназначались уже не ему, а тем, закованным в железо, в длинных белых плащах. Он расплатился за них. И за тех кнехтов, отпущенных с миром, что должны были передать детям своим золотое слово Александра. Обрадованные кнехты забыли наказ…
Тетя Лиза прощается
Мать Дольки вот уже несколько дней не вставала с постели. Дважды в неделю ее навещала женщина в белом халате, одетом под пальто, о чем-то расспрашивала, потом присаживалась к столу и Долькиной ручкой писала что-то совершенно непонятное на бумажных листочках с фиолетовой треугольной печатью. Долька бегал с этими листочками в аптеку и приносил в карманах пузырьки с плохо пахнущей микстурой и пакетики таблеток.
Однажды врач приехала на машине, посидела возле тети Лизы, снова о чем-то спрашивала, а потом тихо и твердо сказала:
— Ну, что же, собирайтесь. Я кладу вас в больницу.
Машина стояла во дворе перед самым крыльцом. Шофер — крупный мужчина в солдатской куртке и хромовых сапогах — терпеливо курил самокрутку и шугал мальчишек, надоедливо обступавших его. А тетя Лиза, поддерживаемая под руку врачихой, высохшая и желтолицая, в залатанных валенках на раздувшихся ногах, обходила соседей. Зашла она и к нам, остановилась у порога.
— Здравствуй, Аня. В больницу меня кладут. Может, всего-то месяц, полежу, а то и меньше. Так ты, неровен час, пригляни за моим-то…
В какой уже раз она повторяла эти слова! Лились они гладко, ровно, как заученные, но устало, и усталость эта пересилила. Голос ее сорвался на шепот:
— Он с твоим дружит, сироты оба, а теперь… — губы тети Лизы задергались, сжались судорожно и трудно, и горькие, едва сдерживаемые слезы набухли в запавших глазах. — Теперь он совсем… один…
Мама моя, тоже близкая к слезам, с виноватым и страдающим лицом, кинулась к ней, как встревоженная птица, порывисто и жальливо обняла.
— Да что ты, Лиза, и говорить об этом не надо. Пусть хоть совсем у нас живет. Ты не тревожься ни о чем, выздоравливай. Мы его не оставим…