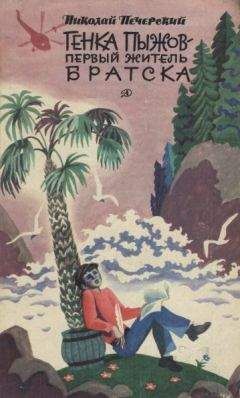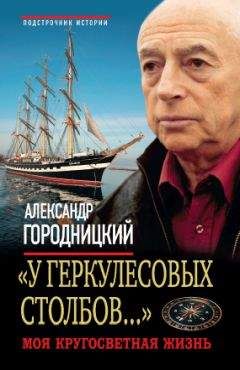Он с гордостью рассказал мне об этом.
Садко
Зимы тех лет были долгими и крутыми. Может, и в самом деле они были такими, или мне это казалось, но никогда после не мучило меня так постоянное, пронизывающее насквозь ощущение холода, от которого не спасали ни одежда наша, ни стены, ни стеганое ватное одеяло; никогда больше не длились столь долго морозные и метельные ночи.
Неделю в месяц мама работала в ночную смену, и Долька уговорил меня эти ночи проводить у него. Я охотно согласился: у Смирновых было радио.
Дома Долька оживал. Он ощущал здесь себя хозяином. Мы растапливали прогоревшую с одного бока железную печурку и пекли на ее раскаленной спине картошку, разрезанную на белые кружочки. Они шипели, быстро покрывались золотистым жаром. Мы с Долькой пристраивались возле и лакомились, и таяли от тепла, потом делали уроки, сидя у окна по обе стороны стола, а после рассказывали друг другу страшные истории с кровавыми убийствами, злодеями или слушали радио.
В ту ночь ударил крепкий мороз. Стекла снаружи сплошь заросли толстым льдом, и окно смотрело в комнату, как огромное бельмо слепого.
По радио передавали оперу «Садко». Я рассказывал Дольке жуткую историю, услышанную в очереди, и не скоро заметил, что он меня не слышит, хотя и сидит рядом. Глаза его были прикованы к репродуктору.
— Долька!.. Долька!
— Ага, — с запозданием откликнулся он, словно голос его дошел до этой комнаты из далекой дали.
— Ты не слушаешь, Долька.
— Слушаю, — снова помедлив, пробормотал он.
— Ну, о чем я рассказывал?
— Они поплыли… Садко этот и его дружки. Он спорил с купцами новгородскими. Слышишь, они плывут? Это вот море играет… А это ветер поет в парусе… Нет, ты только послушай… А это Садко, сам Садко поет. «Высота ли — высота поднебесная, глубота ли — глубота окиян-моря…»
— Долька, но это же совсем не то… Женщина с пирожками, Долька…
— Какая женщина…
И в самом деле, какая женщина? Да и была ли она вообще — эта жестокая торговка, еще одна тень, отброшенная войной на детство? Была ли эта выстывавшая комната, была ли морозная февральская ночь? Ничего этого не было. Не было уже и нас — полуголодных мальчишек послевоенной поры у разогретой до малиновости печки.
Теплое, яркое и доброе солнце сказки наполняло нас и все вокруг. Соленый бодрый ветер звенел в гуслях удалого Садко. Синее море встречало нас, и сама царевна Волхова, обратясь в реку, бережно несла корабли Садко навстречу шири морской, журчала, крепко целовала смоленые борта, а потом махала голубым платком с низкого зеленого берега.
А море, огромное и зыбкое, мирное и могучее, уже звучало вокруг, тяжко и мощно вздымая валы, вздыхая пенными пучинами и завораживая дерзких путников.
«Море, будь добрым к нам. Мы первый раз пустились в такой долгий путь. Море, мы доверились тебе — храни нас. Море, мы молоды, мы полны надежд — оправдай их. Море, мы любим тебя — люби и ты нас…»
Но набрякло тучами, осело на мачты небо — подломились мачты, как тростинки. Озверел ветер и унес изодранный в клочья парус. Волны вздыбились выше небес, хищно свесили мерцающие гребни и разбили корабль. По бревнышку разнесли его перекатывающиеся валы, а нас поглотила ревущая хлябь, и познали мы радость, испытания, терпкий мед горя, а вместе с этим и щемящую прелесть жизни, которой еще не знали цены…
Мы очнулись. Печка наша погасла и остыла. Толстыми белесыми папоротниками цвел лед на стеклах. Близка была полночь.
Долька зябко поежился, встал и, сняв фуфайку с гвоздя, накинул ее на плечи.
— Вот и все… А ты знаешь еще что-нибудь про Садко?
— Не…
— Спроси в библиотеке… И про варягов. И про Индию… Вот бы быть, как Садко. Ничего не бояться. Спуститься на дно морское — и не утонуть, плавать по всем океанам, побывать во всех странах, жить интересно…
— Геркулесом тоже неплохо, — мне было обидно, что Долька так быстро изменил своему любимому герою.
— Да, хорошо и Геркулесом.
— А Чапаевым?
— И Чапаевым.
— Александром Невским…
— И варягом, — продолжил уже он.
— Нельзя же быть всем сразу, — запальчиво крикнул я.
Долька посмотрел на умолкший репродуктор и тихо сказал:
— А я хочу всем… Геркулесом, Садко, Чапаевым, Невским… Всем.
— И ничего у тебя не выйдет.
— Спорим — выйдет.
— Нечего спорить. Жизни не хватит. Я, знаешь, подсчитал. Если даже сто лет проживешь, это тридцать шесть тысяч пятьсот дней. Мало.
— Хватит, — твердо сказал Долька.
— Чудак ты, — вздохнул я и поскорей юркнул под одеяло. Долька сбросил фуфайку, валенки и тоже лег. Ночь обступила нас, лишь окно тускло светилось в ней, как дверь в больничной палате.
Долька заснул сразу, будто нырнул в сон, чтобы в нем биться насмерть с псами-рыцарями на льду Чудского озера, с чапаевской лукавой усмешкой встречать психическую атаку каппелевцев, под маской колдуна выручать из беды юного Дика Сенда и об руку с гусляром новгородским бродить в пестрой толчее восточного базара, слушая рассказы купцов о суровой, сказочной стране варягов, о богатой и чванливой Венеции и особенно — о таинственном острове Гурмызе, где волны выносят на песчаный берег дымчатые жемчуга…
Базар шумел, переливался всеми цветами, как павлиний хвост, а за ним бирюзовой стеной вздымалось море…
Прощай, Колька Мазур!
Но весна все-таки пришла, и первым сигналом к ней стал высокий костер, вспыхнувший возле старого дома слепых, где зимовали цыгане.
В те годы они часто кружили возле нашего города. Летом мы натыкались на их лоскутные шатры в зарослях орешника за Коммуной. Смуглые высохшие женщины и совсем молодые — стройные, с бархатными глазами; чумазые, полуголые дети, уцепившиеся за руку матери или за пестрый ее подол; коротконогие мужчины в сапогах, собранных гармошкой, с лезущими из-под картузов жесткими черными кудрями — все они ходили по домам и базару, навязывались гадать, клянчили деньги, вещи, еду и потихоньку крали. Их живописные лохмотья и смоляные усы и бороды, смуглые полнокровные тела, крепкие белые зубы и медные серьги, их гортанный горячий говор, отчаянно-удалые песни и заношенные пиджаки — все говорило о жизни неустроенной, беззаботной и вольной. Их она вполне устраивала, нас влекла неудержимо, но мы были слишком городскими, чтобы совсем поддаться этому влечению.
Хмурая дождливая осень загоняла цыган в город. Некоторые мужчины устраивались работать на фабрику или еще куда-нибудь — до весны, до первого, еще отдаленного ее зова. Горисполком сдавал им под жилье какое-нибудь вместительное, но старое помещение: был случай, когда цыгане пустили на растопку все половицы в новой молочной кухне.
В городе цыганам было тесно и скучно. Мужчины пили, дрались и торговали краденым, кололи домашний скот; женщины, все в тех же просторных лохмотьях, в которых ветер гулял, сизые от холода, по-прежнему напрашивались погадать; цыганята, которые не могли еще поступить работать, плясали за деньги «на пузе и голове», копались в фабричном хламе, сваленном у пакгаузов, и таскали домой отработанные цевки, ржавые веретена, наконечники челноков, из которых получались отличные волчки, сломанные напильники. К марту возле временного пристанища цыган вырастала гора всякого хлама. Покидая город, они сжигали эту гору и особенно шумно пили и веселились.
На этот раз костер занялся уже в сумерках. Стояла оттепель, и во дворе нашего дома потихоньку худела коренастая снежная баба с глазами-угольками. Сырой теплый ветер носился по улицам и хлопал отделившимся толем на крышах сараев. Хорошо пахло конским навозом и еще чем-то неуловимым, может, ожившей корой тополя.
Темная груда на маленьком белом пустыре возле дома слепых запылала вся сразу под свист, улюлюканье и хриплые крики. В багровом трепещущем свете выделились черные лохматые фигурки, плящущие и похаживающие возле.
Жители Нижнего двора останавливались, смотрели, и в них тоже рождалась эта бесшабашная радость.
— Цыгане весну учуяли, — говорили они.
Мальчишки сбежались со всех ближних домов — для них это было зрелище. Для нас с Долькой — тоже. Он смотрел на костер, на веселящихся цыган жадными, радостными глазами. Фуфайка его была распахнута, ноздри раздувались Как это здорово и легко — сжечь старый хлам, который сам собой копится при оседлой жизни, отвеселиться вволю, не жалея о том, что покидаешь, и идти, куда глаза поведут, доверяясь дороге только да молчаливому коню…
— Пошли ближе, — предложил Долька.
— Не подпустят.
— Жалко…
И тут я вспомнил про Кольку Мазура — одноклассника своего, голодного вечно, щуплого и независимого цыганенка. Где же быть ему, как не здесь?
— Пошли, я что-то придумал. Нас пропустят…
Мазура вот уже несколько дней не было видно в школе, и учительница Наталья Ивановна всякий раз хмурилась при перекличке. Два дня назад она сказала, как бы раздумывая вслух: