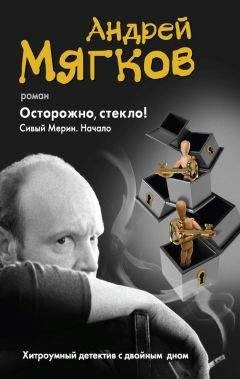Тихий шорох послышался рядом в комнате. Ему стало обидно за себя.
«А, может быть, сам виноват?» — подумал он, и в воображении возникла молчаливая, с грустными глазами Татьяна, тихо забившаяся в угол с Гришуткой.
— Татьяна, — тихо позвал он.
— Ну?..
— Иди-ка сюда!.. Ну, иди, поговорить мне с тобой охота.
Татьяна вошла тихо и села у окна.
— Ну, сядь сюда, — на кровать. Ну, что ты сторонишься?.. И сына от меня поодаль держишь. Воспитываешь какого-то звереныша.
— Тебе же нет дела ни до меня, ни до сына. Хотя бы раз промолвил, чтобы Гришутка около тебя жил.
Макар вздохнул:
— Не живем мы с тобой, а мучаемся. И ты мучаешься, и меня мучаешь, и я… Хоть бы ты сказала, почему это так выходит?
Он говорил тихо и ласково.
— Ну, сядь сюда! — сказал он.
Татьяна перешла и стала у кровати. Макар взял ее руку. Рука Татьяны была тонкая, бледная, холодная. И сама Татьяна на этот раз была бледна. Под глазами синели густые полукруги. Глаза были широко открыты, точно она в первый раз увидела мужа.
— Ну, сядь!
— Я… Я не знаю… Жизнь у нас действительно непонятна, — заговорила она. — Мне кажется, что мы не понимаем друг друга. Не могу понять, зачем мы с тобой поженились? Когда я училась, то думала совершенно о другом… Я думала, что выучусь, и у меня будет какая-то цель в жизни. А теперь я чувствую, что я живу бесцельно, только для того, чтобы быть твоей женой и все… носить ребят…
— Чего же тебе нужно?..
— Я хочу что-то делать. Работы бы мне какой.
— Куда я тебя — в контору, что ли, посажу или смотрителем рудника? Ты там не смыслишь. Да и как? Вдруг баба — смотритель? Ха! Смешно…
Скоробогатов вспомнил, как говорил Маевской:
«Мне бы такую жену, чтобы правой рукой моей была». Теперь это желание показалось ему неестественным.
— Не понимаешь ты меня! — Татьяна прошлась по комнате, ломая пальцы. — Я давно с тобой хочу поговорить… Я хочу быть самостоятельным человеком — независимым.
— Это как?.. Что хочу, то и делаю! Куда вздумаю, туда и пошла?
Татьяна остановилась и в упор посмотрела на мужа с удивлением и досадой.
— Не понимаем мы друг друга и разговариваем на разных языках, — проговорила она. — Что значит быть свободным и независимым человеком? Неужели ты не понимаешь? Я должна быть на своих ногах и возле тебя и без тебя. Муж ты мне на одно мгновение, а остальное время — ты, просто, близкий человек.
Макар, подложив руку под голову, смотрел в потолок.
— Н-не понимаю, — проворчал он.
— Ну, значит, тебе и не понять меня. Я не хочу быть вещью, украшением твоего дома, я пойду работать.
— Куда?
— Мои подруги по гимназии все на работе и чувствуют себя свободно.
— Это учительши?.. И ты, что ли, туда же?
— А хотя бы?
— Что тебе — есть нечего, носить нечего?
У Татьяны потемнело лицо.
— Странный ты человек, — сказала она.
— Ну, нет!.. Шалишь!.. Чтобы жена золотопромышленника была учительшей, — это курам на смех!
— Значит, нет?
— Нет!
Татьяна, гордо закинув голову, вышла, а Скоробогатов встал, как побитый. Весь этот день он разговаривал с нею нехотя. Он еще острее почувствовал сложные отношения, которые у него были с женой.
Гриша попрежнему стороной обходил отца и жался к матери. И жена попрежнему избегала ласк мужа.
— Слушай, Татьяна, долго будет это? Зачем ты шла замуж за меня? — спросил ее Макар решительно.
— Всегда можно ошибиться в человеке! — ответила она.
Макар не знал, что сказать на это и только скрипнул зубами.
Несколько сблизились они после освобождения Малышенко из тюрьмы под солидный залог. Татьяна забыла обиды, нанесенные ей, она чувствовала, что муж как будто изменяется. Он стал относиться к ней внимательно, осторожно.
В конце марта судили Малышенко. Скоробогатов никак не ожидал, что его осудят так жестоко.
— Неправильно рассудили, — рассказывал он дома, Шумно раздеваясь в передней. — Шесть лет каторги!.. Думать надо!.. А Исайка-то Ахезин, что замышлял! Затопить меня хотел! Вот он, радельник! Сволочь!
Выслушав сына, Яков со вздохом сказал:
— Эх, времена подходят! Кто кого смог, тот того и долой с ног. То ли дело прежде… Войну, по-моему, надо. Тесно на земле стает жить.
Когда к Скоробогатову пришел нанятый им защитник Столяров за гонораром, Макар отсчитал ему деньги, недовольно хмуря брови:
— Не защищал, а мямлил! Громить надо бы этого одра Ануфриева. От злобы на людей он весь высох.
— Нельзя, Макар Яковлич! Тут, видите ли, под дело подвели особую подоплеку.
— Подоплеки под рубахи подшивают.
— Ну, это так говорится. Судили более не за убийство, а за организацию коллектива.
— Какая там организация — старатель старателя кулаком по башке кокнул? Надо было Исайку Ахезина запутать. Эту стерву горбоносую надо было пришить.
— Вы говорите против себя… Против своей пользы.
— Какая тут польза? Вы пользу отнимаете. Я бы этого Малышенко к своему делу на золотую цепь приковал.
— Недооценка, Макар Яковлич! — Столяров ходил по комнате и ерошил пушистые волосы. — Вы поймите, что развитие таких коллективов и под руководством таких крепких людей, как Малышенко, повлечет за собой социальное изменение всей жизни.
— На паях же работают? Тоже на манер этих коллективов.
— Это, батенька мой, другое дело. Там свои формы эксплуатации.
— Не понимаю я, какую-то вы ахинею городите!
Столяров пожал плечами. Одеваясь в передней, он сказал:
— Собственно, жизнь подходит к изменению, но нужно ее удержать в своих руках. Я вполне с вами согласен, что Малышенко пострадал незаслуженно. Ну, это будет до тех пор, пока у нас вершить делом будут чиновники, вроде Ануфриевых, Архиповых — их превосходительств и прочих. Ну, так до свидания!
— Так и надо было говорить на суде-то, — сказал вслед Скоробогатов.
Апрель был веселый и ясный. Глубокие сугробы темнели и оседали. Горные речки на этот раз особенно свирепо вздулись. Повеселела в голубом мареве весны тайга. Скоробогатов с тревогой наблюдал за Безыменкой, которая подымала все выше и выше свой пенистый хребет… А там, где раньше молчаливо стоял стройный березняк, появился новый шум: это Смородинка, размывая свой новый путь, бешено, с ревом била в бок Безыменки и разливалась по низине. Лес стоял в воде.
— Небывалая вода нонче, — сообщил Телышков, придя в контору. — Смородинка-то поддает! Надо бы перевалить прорез, а старое-то русло разобрать.
Скоробогатов поехал к Маевскому, но дома его не застал. Не оказалось его и в правлении. В кабинете управляющего на месте Маевского сидел другой, — широкоплечий, рыжий, скуластый инженер. Когда Макар вошел, новый управляющий внушал высокому, похожему на надломленный шест, швейцару:
— Без доклада ко мне никого не впускай… Ты знаешь, что такое аудиенция?
— Никак нет-с! — вытянувшись, крикнул швейцар.
Увидев Скоробогатова, новый управляющий приказал швейцару:
— Выйди!
Кабинет Маевского был неузнаваем. На столах, на подоконниках в беспорядке лежали куски руды, обрезки рельсов, сутунка. Со стены из дорогой золоченой рамы смотрел какой-то вельможа в странном костюме, увешанный орденами и звездами, и с широкой красной лентой на пруди.
В общем, кабинет стал походить на музей.
Новый управляющий Ерофеев терпеливо выслушал Скоробогатова, откинувшись на спинку глубокого кресла, играя красным карандашом. Скоробогатов просил передать ему Акимовские лога. Он уверял: — «Все старатели желают, чтобы они были в моих руках…»
— Вы запоздали, сударь. Лога уже отданы его превосходительству — генералу Архипову.
Скоробогатов вскочил со стула и, скрипнув зубами, нахлобучив картуз, проговорил:
— Какие они!.. Мы должны это делать, а не генералы… Их дело судить да на каторгу ссылать. Мы — золотопромышленники — знаем это дело, к нему приставлены
Если бы тут был Маевский, Скоробогатов разразился бы бранью, но, видя перед собой спокойного незнакомого человека, он сдержался и вышел, не сказав больше ни слова.
Вечером на взмыленной лошади прискакал с прииска белобрысый нестриженный парень — коногон — и сообщил, что Телышков велел ехать на рудник: — «топит разрез». В этот вечер Татьяна тоже собралась ехать на рудник, — смотреть и слушать весну, — но Скоробогатов резко сказал:
— После… Не время сейчас прохлаждаться.
И верхом уехал на Безыменку.
Когда он, спускаясь с горы, увидел через просеку прииск, — лицо его исказилось: вместо разреза голубело озеро, отражая небо. Не было слышно ни грохота бутары, ни завывания бесконечной цепи ковшей, ни усталого пыхтенья паровой машины… Слышался только говор речки да тихий шум леса. А когда Макар подъехал к краю котловины, зубы его захрустели и глухо вырвалась брань: машинное отделение и корпус с чашей стояли в воде.