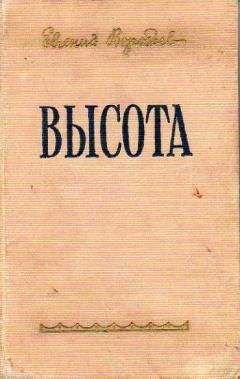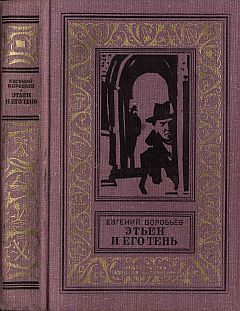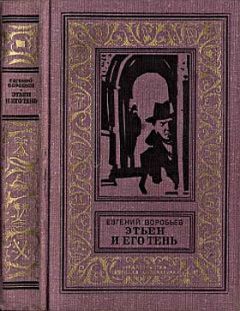Так неужто сейчас, после всего, что пережила, у нее не хватит силы воли, чтобы молча превозмочь подступающую боль?
Она закрыла глаза, и все раненые, которых ей пришлось когда-то ободрять, сгрудились по волшебному приказу у ее койки, обступили ее и разноголосым хором просили:
— Потерпи, сестрица!
— Держись, миленькая!
— Терпите, мамаша!
Среди тех, кого она перевязывала на поле боя и кто пришел сейчас ее проведать, она увидела и Павла. Он стоял чуть поодаль и смотрел на нее с безмолвным состраданием.
Она открыла глаза.
Боль и вправду стишала, или ей показалось, что боль стишала, — это, в сущности, одно и то же.
Что ни говорите, а все-таки, когда думаешь о хороших людях, боль переносится легче, когда не только тело, но и душа у тебя в синяках и шрамах...
В самой родилке репродуктор молчал, а в соседних палатах женщины прислушивались в тот день к торжественным словам диктора Левитана.
По Красной площади маршировал Парад Победы. Маршал Жуков выехал из Спасских ворот Кремля на белом коне. А маршал Рокоссовский, который командовал парадом, гарцевал на вороном. Даже цокот копыт по булыжнику донесся в родильный дом, и Незабудка была счастлива, что ее сын родится в такой день.
Когда-то, ночью на берегу Немана, Павел обещал ей: настанет такое время, что люди будут радио не только слушать, но и смотреть. Эфир научится передавать изображение, да еще на большое расстояние. Выходит, когда-нибудь в Бобруйске увидят, как москвичи гуляют по улицам, танцуют на сцене, играют в футбол или катают по бульвару детей в колясках? Павел сказал, как называется это изобретение, но она, ветерок в пустой голове, позабыла.
А может, Павел намечтал с три короба? Когда дело касается истории, он, как полковой писарь, обожает точность, запоминает, что, где, когда случилось. А коснется радиотехники — первый фантазер. Ну и фантазируй себе на здоровье, Павлуша, лишь бы дожил до этих фантазий и приохотил к ним нашего будущего сына...
Впервые ощутила дыхание сына, нашептывая ему какие-то слова и глотая их вместе со счастливыми слезами. Первый раз дала грудь, сын лежал рядышком, наполняя ее живым теплом. Он впервые зажмурился. Подобие улыбки. Чихнул два раза подряд. Может, так и приучится? Павел тоже чихает дважды, раз за разом.
Она привязывалась к сыну все сильнее и все больше боялась за него, будто он с каждым прожитым днем становился беспомощней. Это, наверное, потому, что он с каждым днем дороже, хотя в минуту, когда ей принесли сына в первый раз, он уже был ей дороже собственной жизни.
Старшая акушерка сверх срока задержала роженицу Легошину — одинокая, ухаживать за ней некому, пусть отлежится в роддоме. Тем более Легошина подкармливала еще соседкину девочку, молока избыток. Но сколько можно держать Легошину, когда в роддоме такая теснота?
В день выписки ей выдали справку, чтобы представить в загс:
«У гражданки Г. И. Легошиной 24 июня 1945 года родился (СЫН, ДОЧЬ), ребенок родился (ЖИВОЙ, МЕРТВЫЙ), 5 июля числа (ВЫПИСАН, УМЕР)».
При заполнении в родильном доме подчеркнули слова: СЫН... ЖИВОЙ... ВЫПИСАН... Незабудка держала в руках справку и с оторопью всматривалась в слова не подчеркнутые: ДОЧЬ... МЕРТВЫЙ... УМЕР...
«Нашелся еще один бессердечный истукан! Сочинил одну бумажку на самые разные случаи жизни и обрадовался...»
Вот не думала не гадала, что кто-нибудь придет за ней и сыном, а их ждала Данута, добрая душа, да еще с доброй новостью.
Женщина, у которой в палисаднике такие рослые веселые подсолнухи и которая дала Незабудке на время гитару, подарила люльку, по-белорусски — калыску. Данута лазила с той женщиной на чердак. Среди всякого хлама, среди рассохшихся бочек, детских санок на ржавых полозьях и другой рухляди валялась старая деревенская калыска с белорусским орнаментом, выжженным по дереву, с веревками на кольцах — хоть сейчас подвешивай к потолочине и укачивай младенца! Калыска уже ошпарена кипятком, вымыта золой и ждет не дождется нового хозяина.
По настоянию суеверной Дануты до рождения малыша для него ничего не приготовили. Но после родов Незабудка не на шутку этим встревожилась. Слышала, голубой цвет полагается мальчику, а розовый — девочке, а вот когда нет одеяльца ни голубого, ни розового, никакого... Она была уверена, что родится мальчик, и не держала на примете ни одного женского имени. Павлушка черноглазый, это он взял у отца, но, говорят, цвет глаз может измениться. Родимое пятнышко на спинке, под правой лопаткой, на том месте и у Павла родинка. Данута божится, что родинка, если самому нельзя ее увидеть, — счастливая примета.
В первый же вечер Незабудке захотелось спеть малышу колыбельную песню.
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю,
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал...
Она запнулась.
«Позабыла я колыбельные слова, а впрочем, никогда их не знала. Меня колыбельными не баюкали. Набила рот всякими мусорными песенками, а самую хорошую, самую первую для жизни песню не знаю. А колыбельная эта про моего Павлушку. Богатырь ты будешь с виду, смело вденешь ногу в стремя и махнешь рукой...»
Госпиталь тоже поздравил с наследником. Завхоз привез байковое одеяло, кипу стерильных салфеток, марлю, вату, две бязевые простыни и две наволочки со штампом «эвакогос». Когда раненый касался щекой этого самого «эвакогос», казалось, он измажет щеку черной краской, въевшейся в бязь. Одеяло, простыни и наволочки совсем новые, но завхоз списал их на тряпки, как пришедшие в негодность по ветхости. А распорядился на этот счет и прислал завхоза с посылкой к Легошиной не кто иной, как замполит госпиталя.
Могло показаться, что Данута рада посылке больше
Незабудки, наверное, потому, что лучше знала цену такому приданому, и весело сказала:
— 3 миру по ниточце, голому сорочка.
Ох, не ко времени пришлось ей демобилизоваться из армии. Числилась бы в кадрах до Дня Победы — сразу разбогатела бы. Согласно новому закону, который передали по радио, и согласно своей должностной ставке, она получила бы по девятьсот рублей за каждый год гвардейской службы...
После возвращения из родильного дома Незабудка сама ходила к колодцу по воду, отстранив от этого Дануту. Незабудка носила воду, красиво подбоченясь. Коромыслу удобно лежать на мускулистом плече, оно не соскальзывает, натирая ключицу, как у женщин с хилыми плечами.
Она стирала и гладила пеленки. Разве могла мечтать, что будет гладить пеленки сыну тем самым утюгом, каким когда-то выглаживала после стирки подворотнички, гимнастерки Павлу, Акиму Акимовичу, легкораненым, а несколько раз и свадебному тамаде капитану Гогоберидзе.
Форштадт получал электрическое освещение только по вторникам, четвергам и субботам от восьми вечера до половины двенадцатого. В другие вечера — лампы, коптилки, лампадки.
Полуразрушенная городская электростанция у Березины восстанавливалась медленно, вся надежда на субботники. А пока Незабудка много времени простаивала за керосином. Не таскать же сыночка с собой, чтобы ее пропустили без очереди!
«Сколько танков, грузовиков стали на прикол после победы, — размышляла Незабудка. — Вот бы это горючее и развезли по городам, чтобы хватило на все керосинки и лампы...»
Давно пора регистрировать ребенка. Данута слышала, что, если в течение месяца этого не сделать, родителей штрафуют.
— Чем вы можете удостоверить свое семейное положение? — спросила секретарша в городском загсе.
Незабудка протянула приказ, аккуратно сложенный вчетверо, он лежал в красноармейской книжке.
— Девяносто седьмой стрелковый полк... От шестого ноября 1944 года... — Секретарша читала очень медленно, будто с трудом разбирала машинописный текст.
Незабудка всматривалась в ее лицо и с волнением ждала, что та скажет.
— Подпись неразборчива... Какой-то майор, заместитель по строевой части. При чем здесь этот майор? Будто он вас и Тальянова освободил от строевых занятий... «Считать мужем и женой»... Фронтовики, а как дети. Круглая печать, а приказ без номера...
— Этот приказ командир полка сам зачитал перед строем. И весь наш девяносто седьмой гвардейский стрелковый полк считал Тальянова и меня мужем и женой!
— Наивно думать, что после этого выписка из приказа получила силу документа.
— Значит, не годится эта бумажка?
— Есть юридическая сторона дела, товарищ Легошина. Мы подчиняемся закону...
— Правильно говорится: без бумажки я букашка, а с бумажкой человек.
— Есть бумажки, без которых и я не человек, — примирительно сказала секретарша и тем обезоружила воинственно настроенную Незабудку; право же, секретарша ничем не провинилась.