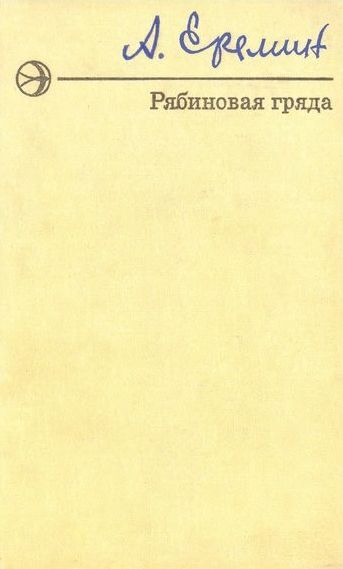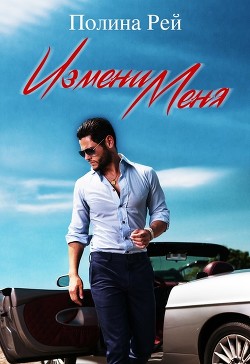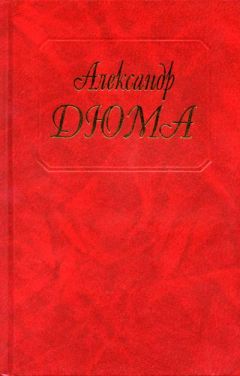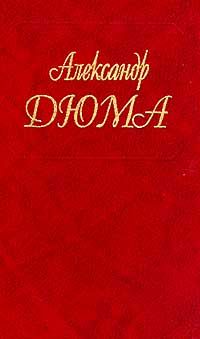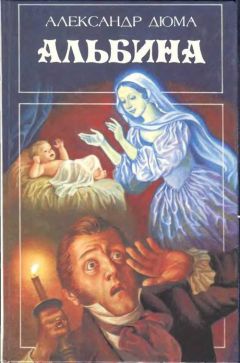когда у него тут живое существо.
— Хотите, я вам стихи почитаю?
— В гостях — в неволе. Читайте.
Сбросит пиджак, чтобы легче было махать руками, и пойдет отхватывать то свое, то Есенина — он им бредил в то время.
Расспрашивает, как я на Волге жила, что-то нет-нет да запишет. Почему-то его особенно взволновало, как я — погода-непогода — за книжками в Кряжовск странствовала.
О себе рассказывал мало и неохотно: семья разбитая, отец в городе с какой-то мамзелькой спутался вдвое моложе его, мать осталась в Родниках, так называется деревня, из которой Дмитрий Макарович родом. Заметно было, что воспоминания его о детских годах безрадостны. Заговорит — и свернет на другое. На подготовку спектакля. Не все роли отлажены, а по селу белеют уже афиши: «10 мая силами…»
Ставили в клубе, полутемном, без потолка, помещении — когда-то здесь был фабричный склад. Сошлись все наши, техникумовские, — как не поглядеть на преподавателей в ролях босяков, набралось изрядно и аграевских.
Зрители были невзыскательны, к промахам актеров снисходительны, хлопали в конце каждого действия от души. Актеры старались, Чиликиш вытягивается на носках, чтобы больше походить на Сатина; Ванечка окал, пел и шепелявил, изображая Луку; Клещ был так чумаз и в таких лохмотьях, что я чуть узнала в нем Паню.
Боялась я, как бы сам затейник спектакля не сбился, околесицы бы вместо своей роли не понес. Нет, и у него все вышло как следует. Ждала я, как он обнимать Наташу будет. Не очень, хоть та и висла на нем.
Когда расходились, в толпе слышались похвалы актерам, особенно Пане и Дмитрию Макаровичу.
— Залесов-то! Ну, лицедей!
— И Камышин не уступит.
— Чего там. Оба — живые босяки.
Мне хотелось скорее увидеть моих живых босяков. Жду около нашего дома. Темная улица затихла, огни гасли, словно избы дремотно закрывали глаза. Из палисадника перед соседним домом и с пробела густо и свежо пахнет черемухой, — она только сегодня, после дождя, заиндевела цветом. Наверно, и у нас распустилась, на Рябиновой Гряде, белеет у двора снежным валом. И вдруг опять с такой щемящей болью в сердце захотелось туда, обнять маму и никогда больше, никогда от нее не уезжать. Паня твердит, жди каникул. Знаю, что надо ждать, но — на сердце не прикрикнешь, чтобы оно не болело. Поднялась на крыльцо, присела на ступеньку и расплакалась, точеную балясину обнимаючи. Все тут в один ком собралось и к горлу подкатило: и что Паня живет беспутно, пьет, в бабах запутался, и что все равно ученье мое не пойдет, и что, видно, самая-то я некрасивая: других девчонок парни из клуба провожать повели, а ко мне хоть бы какой хромой подковылял…
Слышатся знакомые голоса. Мои босяки. Вздыхаю с облегчением: боялась, как бы Паня к этой тумбе, Гагиной Капке, не умотал. Хочется по-ребячьи выскочить к ним из темноты, крикнуть не своим голосом: у-у! Нельзя. Будь серьезной, Татьяна, в твои годы у матери уж двухлетний Сережа был. Когда они подходят к крыльцу, я окликаю их, не босяки ли это ищут свою ночлежку.
— Сюда пожалуйте. Пельменей не взыщите, а чайком угощу.
Приношу с кухни кипятку, завариваю горсть сушеных вишен и на блюдце ставлю на стол прозрачные ледяные карамельки, — сегодня получила по карточкам.
Актеры возбужденно спорят, чего не хватало игре Сатина и Луки, хохочут над Костылевым, как тот побежал со сцены: испугался, что Васька Пепел навтыкает ему по-настоящему.
Мне так хочется угостить их чем-нибудь необыкновенно вкусным — пирожками с картошкой или булкой со сливочным маслом и настоящим чаем, и чтобы сахару было вволю, — но у нас ничего нет, даже черного хлеба: его по кусочку дают только в столовой на завтрак, обед и ужин. И все равно мне приятно, что сосед и Паня рядом со мной, и оба они в ударе остроумия, и оба трезвы. Иногда ведь и Дмитрий Макарович приходит откуда-то чуть ноги переставляючи. Бывает, что и с техноруком до полуночи бубнят за стеной и чашками брякают. Утром технорук прямо с постели толкнет ногой дверь и хрипло кричит:
— Камышин, водка есть?
Гляжу на Дмитрия Макаровича и Паню и умиляюсь.
— Так бы всегда. Без водки.
Дмитрий Макарович вскакивает и подает мне руку.
— Всегда? Обещаю.
Я недоверчиво протянула ему свою.
— Будто и сдержите?
Он повторяет настойчиво и еще тверже:
— Обещаю. Всегда. Астафьевич, разними.
Паня равнодушно ребром ладони разнимает наши руки.
— От водки не заречешься.
19
На соседа нашел стих заняться живописью. Еще зимой накупил в Москве всего, что положено иметь художнику. На стенах появились картины, одни он важно называл эстампами, другие олеографиями. В углу стояли холсты, вымазанные чем-то белым и натянутые на рамки, на этажерке — ящик с кистями и красками. Мне было снисходительно растолковано, что холсты не вымазаны, а загрунтованы и натянуты не на рамки, а на подрамники, ящичек же называется этюдником, с ним ходят делать наброски, эскизы и еще что-то. Похвалился кистями:
— Колонковые, не какие-нибудь.
С музыкой было покончено, скрежетанием смычка о струны, неистовым выцарапыванием гамм и «Во саду ли, в огороде» больше он нас не донимал. Прибежит с уроков, скорее на кухню за водой — значит, рисовать акварелью надумал.
Первые опыты были у него из рук вон. И рисунок колодца с воротом, видного из его окон, и копии шишкинской «Ржи» и бёклиновского «Тритона и Нереиды» — все робко, неуклюже, коряво. Нереида развалилась толстая, неприлично грудастая, похожая на Капку Гагину.
Мне нравилась в нашем соседе его неугомонность: он чем-нибудь да был увлечен. В то время когда изводил нас игрой на скрипке, он терпеливо изучал труды по теории смычка, по акустике скрипки. Метнулся к рисованию— и стол заполонили толстые тома по истории живописи, руководства по технике работы масляными красками, акварелью и какими-то неведомыми мне темперой и гуашью.
Любил он и свое учительское дело, к каждому уроку читал, наверно, впятеро больше, чем надо было рассказывать. Как-то еще успевал готовиться к беседам с аграевскимп колхозниками о международном положении, даже о строении вселенной. Паня посмеивался:
— Универсал. Фигаро здесь, Фигаро там.
— Приходится фигарить, — оправдывался Дмитрий Макарович. — Говорю, несведущий я во вселенной, а мне: комсомолец во всем должен быть сведущим.
Не давали ему покоя и неурядицы в техникуме. Мастерские по месяцу были закрыты, меха, привезенные из Сибири и Средней Азии, слеживались и гнили, студенты слонялись без практики. Из Москвы наезжали комиссии, обследовали, спорили. Кой-что из этих споров сосед передавал и нам. Одни доказывали, что помещения не соответствуют технологии красильного производства, другие — что техникум вообще не на месте, отдаленность его