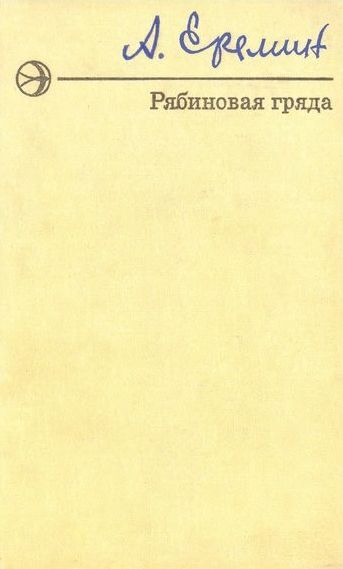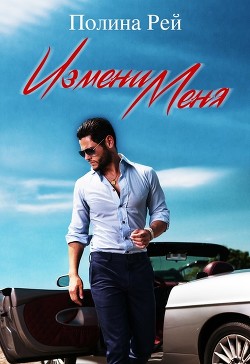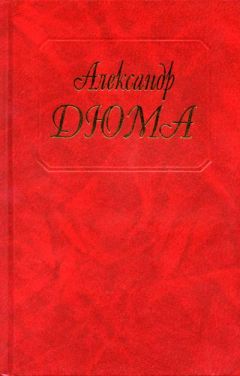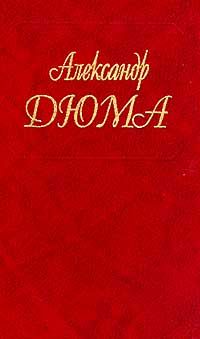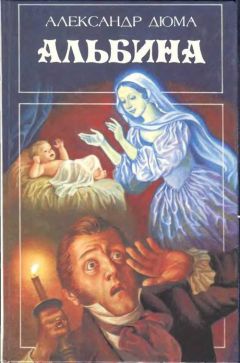я на Павла Астафьевича обиды на сердце не содержу. Стоять бы мне в сторонке да утирать слезы, а я тебе докучаю. Жалко мне его. Ты и поверила, что вечернее занятие! Как же! В гагинском притоне, сама видела.
Так меня и подкосило. Опять у Капки.
— Сходи, — ноет Соня. — Может, усовестим его.
У Гагиных не заперто. Паня в одной рубахе с расстегнутым воротом сидит у стола с бутылками и закуской и вялыми движениями всей кисти выбивает на мандолине что-то несуразное. Капка с подругой танцуют польку и сами подпевают, словно подталкивают себя:
Не ругай меня, мамаша,
Это было в первый раз,
Юбку новую порвали
И подбили правый глаз.
Паня отвернулся, когда увидел, что я стою у порога; Капка выпустила подругу, подплыла ко мне и навалилась всей тушей.
— Танюша, золотце мое, к столу. Не будь монашкой, откушай. Беленького не хошь, хлобысни красненького, у нас всякое есть. Опятками солененькими закуси.
Откушать я отказалась. Зову Паню, задачу, мол, одну без тебя никак не решить. Ухмыляется, наливает водки себе и мне.
— Хватим, Танюша. По единой. Не осуждай, человек— смешение добра и зла, так сказал Заратустра. — И пошел. Его не перезаратустришь. Выпил, опять захлестал пятерней по струнам, рыкнул Капке: — Пляши, кариатида!
Капка нежно глянула на него.
— Что это как вы меня обзываете, Павел Астафьевич. — И послушно заколыхалась.
Огорченная, что я пришла одна, Соня долго хлюпала носом. Усталым от слез голосом перебирала способы спасти Паню.
Приходить она стала каждый день. Отсидит на почте свои часы — и к нам. Сидит, нудно жалобится. Мне хлорные соединения надо учить, а я в двадцатый раз должна слушать, как она с Павлом безвозвратно невинность свою погубила.
Варю на кухне картошку, сосед приходит за кипятком. Цедит из «титана» в чайник, шутит:
— Эта, со снопом волос своих овсяных, к вам как на службу приходит. Часы по ней проверяю.
— Вот, — говорю, — и польза.
— Мне — допустим. А вам? Не наскучили эти излияния?
У меня вырвалось невольно, что наскучили до смерти.
— Уроки не успеваю учить. Хоть беги.
— Так бегите.
— Куда?
— Подсказать? Рядом пустует комната. Садитесь за стол и зубрите.
— С удовольствием.
Дмитрий Макарович каждый день допоздна шумит на репетиции. Готовят «На дне». Сам он и режиссер, и актер: играет Ваську Пепла.
Заниматься в его комнате и правда одно удовольствие, стол огромный, от одного края до другого руками не дотянуться. Разложу тетрадки, только бы учить, а я невольно отвлекаюсь: любопытно, какие книги читает Дмитрий Макарович. Беру из одной стопы, из другой. Пушкин, Некрасов, Толстой и десятки других — это ясно, для занятий с нами, а вот зачем ему хрестоматии по истории стран Востока, тома русских летописей, «Стоглав» и еще многие премудрости — этого в толк не возьму.
Стараюсь угадать, о чем он думает, когда сидит тут, кому пишет письма. Из учениц нашего курса он ни на одну не заглядывается, уж мы бы заметили. Может, на репетициях? Поглядеть бы, кто Наташу играет. Или Настю. Велю себе не ломать голову над пустяками и заниматься делом.
Уходить привесилась минут за двадцать до того, как в коридоре послышится быстрый перестук его кожаных сапог.
И все-таки встреч с Соней не миновала. Как-то она среди ночи привела Паню, тот едва на ногах стоял. Раздела, уложила в постель. Мне сказала, что встретила его на улице.
— Мог бы упасть и замерзнуть. Состояние повышенного опьянения часто сопровождается опасными последствиями.
Должно быть, в райсовете научилась таким оборотам.
Приводила Паню и после.
Капка в перемену придвинется ко мне, гудит:
— Рыжая-то. Подопрет у наших шабров забор и ждет, когда Павел Астафьевич выйдет. Я выбегу, погрожу космы выдрать. Подальше перейдет и опять торчит. Как собака.
— Паня-то что ее не пожалеет?
— Было бы за что. По своей воле людей смешит. Ты ей скажи: дура, мол, рыжая…
Я отодвигаюсь: пахнет от Капки как от запаленной лошади. Жестко говорю, что спаивают они брата.
— Уж лучше бы рыжая… Любит она его.
Странная эта была любовь, безответная, преданная, на любое унижение готовая. Соня и меня встречала на улице жалкой заискивающей улыбкой, извинялась, что приходила ко мне, только дома не заставала. Когда она приводит Паню домой, обязательно оставит что-нибудь для него, то пакетик сахару, то бог весть и где добытую банку меду. Углядела, что ходит он в худых ботинках, съездила в Москву и купила ему на толкучке хромовые сапоги. Чтобы застать его дома, принесла их рано утром. Паня только что встал. Сконфуженно поставила у его койки.
— Носите, Павел Астафьевич. Апрель, вода везде. От охлаждения и простуды ног возможно ревматическое заболевание.
Паня растерянно ухмыльнулся.
— Обуть меня решила? Умилить? Святая, мол, Соня Мармеладова. Кротостью хочешь взять?
Красная от смущения и стыда, словно пришла просить милостыню, Соня взялась за ручку двери.
— Ничего, Павел Астафьевич, не хочу. Сапоги я совсем по дешевке. Простудитесь, думаю… И… не пейте. Напрасно вы к Гагиным. Нехорошие они люди, грубые. Не знаю, чем они вас…
— Водкой, — подсказываю я.
Несколько дней Паня не решался надевать сапоги. Поставит их утром рядом со своими рваными ботинками, размышляет вслух:
— Надеть? Вроде на взятку клюнул. Любезностями Соньке надо платить, улыбаться, а мне глядеть на нее тоска. Не надевать? Валяться будут без пользы. Таня, как тут мне?
Я советую не кобениться и надеть, пока и в самом деле ревматизма не нажил, говорю, что за сапоги заплачу.
— Выспрошу у Сони, сколько отдала за них. О Гагиных— послушай ее, не шляйся, не позорь себя.
— Так это… плата за мою волю? — Паня в сердцах швыряет сапоги к порогу. — Пусть ревматизм, чахотка, зато — сам себе агроном.
Журнал такой выходил до колхозов, и его название— «Сам себе агроном» — было у Пани поговоркой.
Все-таки сапоги надел. И к Гагиным реже стал ходить. Как раз в подготовке спектакля у Дмитрия Макаровича прореха случилась: заболел учитель, игравший Клеща. Уговорили Паню выручить. Попробовали. Решили, что лучшего Клеща и не сыскать.
Соня уже не ходит ко мне с жалобами на бесчувствие Пани, а я все еще занимаюсь в соседней комнате. В ней много солнца, света и на душе делается светлей. Даже задачи решаются легче. Иногда засижусь, не соображу, когда соседу время прийти, читаю или сочинение пишу, а хозяин уже на пороге. Вскакиваю, собираю свое скорописание, он подбежит и за плечи опять меня посадит. Говорит, что ему приятно,