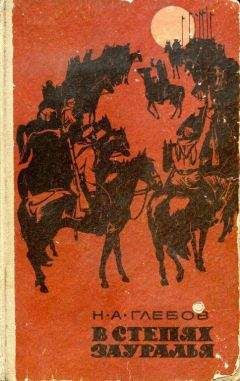Новая власть вернула ей заимку, пахотные земли, луга и пастбища, лесные колки, входившие в прежнюю нарезку; но крупный рогатый скот Феврония отбирать у мужиков не стала. Боялась — спалят заимку. Наладились отношения с отцом. Правда, привязанности к нему, как и раньше, у нее не было, но, следуя народной поговорке «свой своему поневоле друг», Феврония стала мягче относиться к отцу. Оба чувствовали, что нужны друг другу в торговых делах.
Феврония с головой ушла в хозяйство. Но каждый раз, проезжая летом мимо степного шалашика, где провела несколько сладостных минут с Василием, охваченная воспоминаниями, она долго стояла, не спуская с него глаз. Затем горестно оглядывала степь и, опустив бессильно руки, медленно брела к своему тарантасу. Приближаясь к заимке, Феврония становилась спокойнее, лицо стало, как обычно, надменным. Порой ночью она просыпалась от чувства тревоги за судьбу Василия; оно не оставляло ее и днем. Стараясь забыться, она все чаще и чаще оставляла заимку на попечение старого Изосима и уезжала в Челябинск.
Так и на этот раз. Подрядив гуртоправов гнать скот до станции, она уехала с отцом в Челябинск. Пока Лукьян занимался покупкой сена, обивал пороги ветеринарного надзора, Феврония объезжала магазины и, выбрав себе платье из кашемира, заглянула к ювелиру и, к его удивлению, не торгуясь, заплатила солидную сумму за изящный кулон с бриллиантом.
Приехала она в гостиницу под вечер. Лукьяна, занимавшего соседний с ней номер, не было. «Уехал, с каким-то господином, похоже, оба выпивши», — на вопрос Февронии об отце ответила горничная.
«Кто это может быть с ним? Скоро скот прибудет, а он в гулянку ударился, в ресторан закатился. Съездить надо, поискать. Деньги при нем большие, как бы не вытащили у пьяного».
Феврония сначала заглянула в городской сад, где был ресторан, прошлась между столиками, посмотрела отдельные кабинеты. Лукьяна не было. «Куда утянулся?» И, подойдя к ожидавшему ее извозчику, спросила:
— Есть еще в городе ресторан?
— Есть, на острове, справа от моста через Миасс.
— Поезжай.
Как и все челябинские извозчики, тот ехал не торопясь, жалуясь на дороговизну овса и сена. Февронии надоело его слушать, и, уткнув нос в муфту, она отдалась воспоминаниям. После бегства Василия из троицкой тюрьмы прекратились деловые встречи с Крапивницким, и она уехала в Камаган. Потекли однообразные дни. Правда, как-то под осень, направляясь в Троицк, на заимке сделал остановку казачий отряд. Вечером пьяный командир хотел, по выражению стряпки, подсыпаться к хозяйке, но получил такой отпор, что тут же приказал седлать коней и выехать с заимки.
Шли дни. Февронию начала одолевать скука. Когда Лукьян предложил вступить в компанию по закупке скота для армии, она охотно согласилась. Наделенная от природы холодным, расчетливым умом, грамотная Феврония оказалась хорошей помощницей в его торговых делах. Как она и предполагала, договор с интендантством был для отца невыгодным.
— Стало быть, объегорили, говоришь?
— Похоже, — коротко ответила дочь. — Вся разница в цене между живым и чистым весом скота идет военным чиновникам и ветеринарам. Немалые проценты получает и твой дружок Каретин.
— Ишь ты, — поскреб затылок Лукьян. — Ничего, отыграемся на кишках да коже. Съезжу как-нибудь на днях в Троицк, договорюсь с кожевниками и салотопами. — Помолчав, добавил: — Тут какой-то благородный господин у меня прошлый раз был. Уговаривал насчет хлебного дела. Шибко, говорит, выгодно. Мельницы арендовать, зерно молоть и опять же на армию сдавать по доброй цене. Положительный господин. Одет богато. Из себя такой благообразный, с кольцами на руках, в черной тонкого сукна тройке. Пай, говорит, не такой уж большой. А прибыли за год можно взять в три, четыре раза больше.
— Хватит нам и своего дела, — оборвала его Феврония. — Не гляди, что другой господин хорошо одет, может, он самый настоящий жулик.
— Што ты, што ты, — замахал испуганно рукой Лукьян, — да у него кондитерская фабрика в Челябинске есть, да исшо он вместе с Губкиным, Кузнецовым чай из Китая получает для развески. Нет, што ни говори, господин положительный.
И вот, вспоминая последний разговор с отцом, Феврония подумала: «Не затащил ли этот господин его в ресторан?» Из раздумья ее вывел голос извозчика:
— Приехали. Теперь надо идти бережком, а там и ресторан. Дожидаться или нет? — получая деньги, спросил он.
— Подожди, — бросила Феврония и направилась к острову.
Лукьяна она нашла в ресторане в отдельной, наглухо задрапированной комнате в обществе пьяных господ и вызывающе одетых женщин. Не замечая дочери, стоявшей в дверях, он держал на коленях визжавшую от щекотки какую-то толстушку. В табачном дыму трепетала в танце цыганка, и слышался звон гитары. Феврония молча подошла к отцу, рывком отбросила женщину и, резко сказав Лукьяну: — Одевайся, — повернулась к выходу.
— Позвольте, позвольте, сударыня, кто вы есть такая? — загородил ей дорогу господин с холеной бородой и глазами навыкат. Он был во фрачной паре, белой манишке с модным галстуком-бабочкой.
— Вам какое дело? — властно спросила Феврония незнакомого господина.
— Феврония, не шаперься, потому это мой лучший друг, значит, Павел Матвеевич Высоцкий, — проговорил заплетающимся языком Лукьян. Опираясь на накрытый столик, он с трудом поднялся со стула. — Потому как он городской, а я деревня, значит, гарнизуем мы опчество по скупке хлеба. — Шатаясь, Лукьян повернулся к Высоцкому: — Не обессудь, выпьем еще по маленькой. А это моя вдовая дочь. — Лукьян с трудом поднял отяжелевшие глаза на Февронию.
— Хватит, — решительно сказала Феврония и отставила рюмку от отца. — Поехали домой.
— Вы, может быть, составите компанию и посидите с нами немножко? — склонив красивую голову перед Февронией, произнес вкрадчиво Высоцкий.
— Спасибо, не желаю. — Подхватив отца под руку, вышла. Помогла одеться: и усадила с помощью извозчика в сани.
Доро́гой Лукьян, куражась, говорил:
— Матери даже обязательно куплю граммофон. Пущай музыку да песни слушает под свою лестовку[10], а?
Феврония укоризненно покачала головой.
— Теперь, значит, все перемешалось. Кто старовер, кто мирской, не поймешь.
— Это правильно, господин купец, — отозвался со своего сиденья извозчик и задергал вожжами. — Ну ты, халудора, передвигай клешнями.
— Значит, выпил я сегодня. А кто не пьет? Татары, и те нынче водку пьют, своего Махомета признавать не стали.
Февронии надоело слушать пьяную болтовню отца. Откинувшись в глубь саней, она с наслаждением вдыхала морозный воздух, любуясь звездами и круторогим месяцем, висевшим над городом. Думать ни о чем не хотелось.
Утром спросила отца:
— С чего это ты загулял?
— А так, дурость, — досадливо махнул рукой Лукьян и отвел от дочери глаза. — Господин Высоцкий меня сманил.
— У тебя свой-то ум есть или нет?
— А ты што с отцом так стала разговаривать? — повысил голос Лукьян. — Хозяин я себе или нет?
— Хозяин, а какие деньги есть, давай сюда.
— Это почему?
— Потому, что пристрастие стал иметь к вину. А напьешься — болтаешь много лишнего.
— Что я сболтнул? — уже тревожно спросил Лукьян.
— Насчет нашей веры: мать хотел заставить под граммофон молитвы читать.
— Неуж? Господи, прости меня, грешного, — перекрестился он. — Чисто бесовское наваждение вчерась напало. Возьми ты их, окаянных, — вынимая бумажник с деньгами, заговорил он. — Через них опять в вертеп попаду.
Феврония оставила деньги отцу на покупку сена и расчет с гуртоправами, остальные положила в свою шкатулку.
— Вот што, — одеваясь, продолжал Лукьян, — мирские послезавтра будут Новый год справлять, а до нашего еще три месяца осталось. Пойдешь на ихний праздник? Главный инде... индетант — фу, лешак его возьми, не выговоришь скоро, — значит, два билета прислал.
— Схожу, — подумав, ответила Феврония.
Окрыленное успехом на фронтах, колчаковское командование решило встретить Новый год с помпой. Зал офицерского собрания был украшен яркими гирляндами, разноцветными китайскими фонариками. Всюду зеркала, цветы к до блеска начищенный паркет. В буфете появилось «Клико» и японские сигареты. У парадного подъезда пестрели флаги — русский и чешский.
Феврония появилась на новогоднем балу в платье из светло-серого тяжелого шелка, расшитое черным стеклярусом. Слегка полную, как бы выточенную из белоснежного мрамора, шею украшала золотая цепочка с кулоном, который покоился на высокой груди. Голову Февронии украшала сложенная короной толстая коса; строгие черты лица дышали спокойствием и той величественной красотой, которая свойственна кержачкам.
На встречу Нового года Лукьян явился в новом из тонкого сукна частоборе, в шелковой косоворотке и хромовых на мягкой подошве сапогах. На груди — медаль за благотворительность, полученная еще в царское время. К негодованию Митродоры, Лукьян еще до поездки в Челябинск подстриг бороду на городской лад.