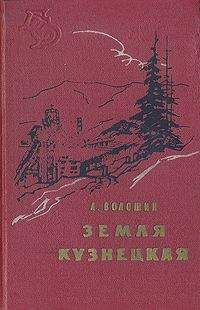Рогов вдруг вскочил и, пошевеливая руками в карманах, выпалил:
— Пусть у себя это в первую очередь спросят!
— Это почему? — парторг высоко вздернул брови. — Уголь-то мы даем?
— Даем! — ответил Рогов. — Но мы даем коксовикам бесценное золото, а они тут занимают очень странную позицию. Ты подумай, что делается во всех звеньях нашего народного хозяйства: куда ни повернись, всюду лезет в жизнь новое, более совершенное, а коксовики, при поддержке металлургов, в святая святых своей деятельности вдруг заартачились!
Как всегда в минуты большого напряжения, лицо Рогова чуть побледнело, осунулось, говорил он почти без жестов, бессознательно действуя на слушателей своеобразными интонациями, при которых слова приобретали совершенно неожиданную окраску. Так говорить может только человек, глубоко убежденный в своей правоте.
— Необходимо, — продолжал он, — немедленно ломать устаревший взгляд на вещи, будто добротный металлургический кокс получается, если только в шихте на восемьдесят пять — девяносто процентов содержатся такие дефицитные марки углей, как «ПЖ», «К» и «КО». Но это же технический абсурд, это значит, что процесс коксования по существу неуправляем, словно его создали не люди, а ее величество природа. Нужно воздействовать на внутренние свойства углей, нужно громить, перекраивать их, а не заглядывать им в личико: «Ах, вам это не по нутру?» Это не смешно. Гамму коксующихся углей необходимо расширять — это наш кровный долг перед судьбами родной промышленности. И кто хотя бы раз открыто, честно сказал, что это невозможно? Ведь сама жизнь опрокидывает такие «установки». За последние десять лет в коксовую шихту брали все больше газовых углей, а ведь кокс-то не ухудшался. Еще до войны в Магнитогорске академик Павлов доказал возможность привлекать для коксования до сорока процентов газовых углей. Вот как обстоят дела!
Бондарчук опустил взгляд на раскрытые ладони, потом крепко зажмурился, так, что короткие густые ресницы вдавились в тонкую кожу глазниц. А когда посмотрел на Рогова, глаза его смеялись и голос чуть вздрагивал.
— Знаешь что, Павел Гордеевич, — он подмигнул Степану, — поедем на областную партийно-техническую конференцию — вот тебе тема для выступления.
— Видишь! — оживился Рогов. — Ты сам понимаешь…
— Что это только один путь! — перебил Бондарчук. — Он не исключает, а только подтверждает необходимость увеличить добычу нашей дефицитной марки. Ты-то понимаешь это?
Рогов устало вздохнул.
— Конечно, понимаю. Но в наших условиях… мало надежды на успех.
— Ты же сам говоришь, что шахта тронулась в гору, что сейчас в дело впряжены все силы? — снова начал Бондарчук.
…Уже бледные зимние сумерки подбирались к широким окнам, Степан в третий раз кипятил чайник, а парторг с начальником шахты все еще то сидели друг против друга, почти соприкасаясь взъерошенными шевелюрами, наклоняясь к листку с вычислениями, то одновременно ходили по комнате, встречались нечаянно где-нибудь в углу или на середине и говорили, говорили.
Несколько раз то Рогов, то Бондарчук нетерпеливо обращались к Степану:
— Что ты молчишь? Ты-то как думаешь?
— Как я думаю? — Степан разводил руками. — Я о многом думаю, но пока помолчу. Рассуждайте.
Степан отходил то к плитке — доливать чайник, то к приемнику — подкрутить регулятор, но делал он все это невнимательно, вполглаза. За весь вечер он не пропустил ни одного слова, сказанного Бондарчуком и Роговым.
Рогов говорил:
— Да, для перехода на нижний горизонт недостаточно одного желания, одной необходимости. Под все это надо подвести прочный технический расчет. А все расчеты нужно делать, исходя из конкретных государственных планов, которыми мы связаны со всем Кузбассом, со всем народным хозяйством…
— План — как вериги? — насмешливо перебил парторг.
— Не чуди! Это основа хозяйственной дисциплины. Повторяю, не в этом еще загвоздка. Можно перенести весь фронт подготовительных работ на нижний горизонт, можно нарезать лавы — с этим мы обойдемся. Но ведь сразу же потребуется еще два внутришахтных уклона. Два! Где для этого взять людей? Где? Ты же понимаешь, если я прошлый раз на бюро горкома отказался принять шестьдесят человек, я же действовал из прямого хозяйственного расчета.
Бондарчук крутит пуговицу на гимнастерке Рогова.
— Правильно. Трудно. Но категорически необходимо. Немедленно ставь в известность трест, комбинат, министерство — кого угодно…
— Немедленно едва ли удастся это сделать.
Бондарчук кривит губы.
— Почему?
Рогов круто повертывается, берет Степана за плечи и, поставив его перед собой, спрашивает Бондарчука:
— Ты видишь его? Это наш рабочий, их на «Капитальной» почти три тысячи. Должны мы посоветоваться с ними? Должен сам коллектив взвесить собственные силы? Это же твоя мысль — помнишь, когда знамя отдавали?
— Хорошо. — Лицо у Бондарчука посветлело. — Хорошо. Будем советоваться. И ты, Степан, тоже это запомни.
Он берет трубку и, вызвав партбюро, спокойно говорит:
— Вера? Обзвони быстренько членов бюро, пусть явятся к восьми. На повестке: квартальный план.
Уже собравшись уходить с Бондарчуком, Рогов вдруг снова взмахнул руками и заговорил:
— Вы понимаете? Я начал чувствовать шахту как завод с единой поточной линией, как хорошо налаженный механизм. Черт! Не работы боюсь — давай работу. Но не во мне дело. Люди попадают в другие условия. Возьмите черепановцев — приноровились на крутопадающих, а как развернуться на пологих пластах, на горизонтальных?
Данилов слышал, как, захлопнув дверь и спускаясь по лестнице, он еще несколько раз воскликнул:
— Круто поворачиваете! Круто!
Оставшись один, Данилов некоторое время занимался обычными вечерними делами. Прибрал в комнате — не нравилось, как это делала уборщица, почитал газеты, покрутил регулятор приемника, но делал это уже невнимательно, скорее для порядка, так же, как во время спора Бондарчука с Роговым.
«Та-ак… Значит, товарищ начальник шахты сомневается! Хорошо! Очень хорошо…»
Данилов передернул плечами и решительно шагнул к телефону.
— Срочное дело? — переспросил Черепанов на другом конце провода. — Ну, что ж, приходи… Мы, правда, на концерт собрались, но если срочное… Приходи.
В общежитии были Черепанов, Сибирцев, Аннушка, Санька Лукин. Аннушка ходила по комнате, заложив покрасневшие на морозе руки в крохотные карманы жакетки. В углу сидел Саша Черепанов, вычерчивая что-то в блокноте.
Лицо у Черепанова утомленное — несколько последних суток, кроме своей смены, он ходил на два-три часа в две другие. Это были беспокойные смены не только для него, но и для всех членов бригады. Друг у друга учились, проверяли приемы, готовились к решительному шагу вперед.
Не успел Степан перемолвиться и одним словом с товарищами, как у крыльца кто-то закричал зычным голосом;
— Тпру-у! Приехали. Выгружайся, товарищ музыкант!
Все бросились к окнам и невольно ахнули, Черепанов — так тот даже за голову взялся.
— Мамочки, такого еще не было…
У подъезда стояли огромные комхозовские розвальни, груженные разлапистым фикусом и блестящим, лакированным пианино. Из-за лошади вывернулся сияющий, возбужденный Митенька. Новенький полушубок на нем распахнут, шапка чудом держится на затылке, взбитый чуб заиндевел. Улыбчиво оглядев поклажу на санях, он хлопнул себя по бокам рукавицами и, одним махом одолев пять ступенек, крикнул в двери:
— Живые? Помогите. Срочна. Это ж музыка!
И во все время, пока товарищи молча заносили в комнату разлапистый фикус, а потом громоздкое пианино, он прыгал вокруг и, словно не замечая натянутого молчания, все покрикивал:
— Да не так, не так, левее надо! Вот чудной, зачем ты за эту лапку цапаешь, сломаешь!.. Не соображаешь!..
Выгрузили. Посидели вокруг покупок, отдышались. Потом Лукин щелкнул пальцем по запотевшему листку фикуса и молвил:
— Росла, между прочим, греха не знала…
— А атмосфера была вредная, — начал Митенька.
— Это почему?
— По хозяйке сужу, у которой покупал. Такая сквалыга, все норовила с меня содрать лишнюю сотню.
— А сколько содрала?
Митенька тряхнул головой.
— Так я же увертливый, три тысячи дал и ни в какую.
Сибирцев кашлянул в ладошку.
— Значит, плакала твоя сберкнижка? Товарищи только вздохнули. Но Санька тут же снова спросил:
— Что же мы теперь, танцевать будем? Тра-ля-ля?
— Как это тра-ля-ля? — обиделся Митенька, — Выдумал! Это для Тони Липилиной!
— Да, да, это для Тони! — подхватил Черепанов. — Мы же советовались, что бы такое ей купить. Завтра тронемся. Пианино Митенька в кармашек сунет, фикус этот в платочек завяжем, Санька вон по пути прихватит маневровый паровоз. Вполне торжественно получится. — Он с сожалением посмотрел на покупателя и сразу переменил тон: — Эх ты! Человек же больной. Слышал, что Степан Георгиевич рассказывал? А ты с целым оркестром, да еще этакий телеграфный столб!