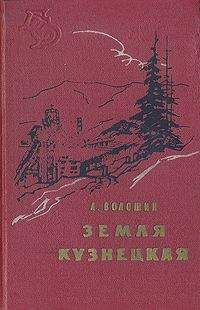Ткаченко сердито отшатнулся, потом коротко хмыкнул и, наконец, бочком отошел к рассветному окну, махнув комсомольцам.
— Уходите! Надоели.
Постояли на припорошенных снегом ступенях, вгляделись пристально в город, в прозрачный горный простор вокруг, потом Черепанов сказал задумчиво:
— Хороший день будет.
Где-то за горой протяжно и чисто запел гудок «Капитальной», скликая первую смену. Сибирцев оглянулся на Степана, а тот на Аннушку. Она сейчас же кивнула:
— Иди, Степан, я обо всем узнаю и, как только проснется, сообщу.
Черепанов тоже простился. На крыльце долго еще стояли Чернов с Аннушкой.
Повзрослели они за эту длинную тревожную ночь. Все было передумано и как будто обо всем переговорено в те часы и минуты, пока ждали вестей от Ткаченко. А он скуп был на вести. Глянет через перила лестницы вниз и спросит коротко:
— Сидите?
Да больше, пожалуй, ничего и не нужно было — одним своим видом, голосом доктор успокаивал. Значит, все идет так, как должно. Один только раз позвали Степана в палату, и не Ткаченко, а мать Тони, Мария Тихоновна. Какая-то удивительно отчужденная, в белом больничном халате, она медленно сошла вниз по лестнице, постояла посреди вестибюля, словно забыв, зачем оставила дочь, потом подошла близко к Степану, и голос ее дрогнул, когда она сказала:
— Иди, Степан, тебя кличет.
Степан вернулся минут через десять и сел рядом с Аннушкой. Его ни о чем не спросили, хотя глаза у каждого кричали: «Не молчи! Что с Топей?» И он заговорил, приподняв руки и сжав их в кулаки:
— Она говорит, что свет перед глазами… Как будто молнии. Больно. А доктор одно свое: у нее затяжный кризис, сейчас все решается… Решается! — повторил Степан и строго заглянул в лицо Ермолаевой. — Вот, Аннушка, что я думаю: мне довелось разными способами убивать врагов — из винтовки, даже из пушки палил… Но если еще кто-нибудь к нам придет, я потребую такое оружие, чтобы, как молотом, тысячами разило… Будь они прокляты, кто живую кровь пьет!..
Степан крепко зажал глаза кулаками.
…И вот поднимается утро.
Проводив взглядом Степана, Сибирцева, Черепанова, потом поглядев на трепетный малиновый занавес над восточной горной грядой, Чернов стесненно вздохнул:
— Песню написать хочется!
— Песню? — Аннушка оглянулась на журналиста. — А ты попробуй.
— Нельзя пробовать, — писать нужно! Рвется это из меня, сладу нет! Написать нужно так, как вижу все…
— Что же ты видишь?
— А вот Тоню в палате, наш город, как ты всю ночь в углу проплакала, а Степан с Георгием ушли на смену только что… Какими словами написать об этом?
— Пиши, Саша! — задумчиво отозвалась Аннушка и медленно сошла по ступенькам.
Постояла еще немного и вдруг заторопилась: необходимо сейчас же встретиться с Бондарчуком и Роговым. Что там случилось в забоях у Вощина, — с этим так и не успели ночью разобраться.
Главный инженер треста Черкашин встретил Рогова новостью:
— Можешь радоваться, Павел Гордеевич: план комбинатом на новый месяц тебе утвержден прежний, если не считать увеличения на два-три процента за счет энергетических углей.
— Утвержден, — не сдержал Рогов досады. — Очень что-то прытко на этот раз, обычно контрольные цифры приходят на шахту в первых числах месяца.
Черкашин улыбнулся.
— Обычно на аккуратность не принято жаловаться.
— Я о другом, — возразил Рогов. — Меня удивляет некоторая близорукость в местном планировании. Скажите, почему это, имея в хозяйственном активе такую единицу, как наша шахта, в планах все время нажимают на окисленный, энергетический уголь? Но ведь «Капитальная» заложена и действует как коксовая — в этом она должна играть первую скрипку.
Черкашин опять улыбнулся, разгладил пальцами складки на щеках.
— Не порите горячку, Павел Гордеевич, все очень закономерно. Марка «ПЖ» необходима народному хозяйству, значит в свое время она займет подобающее место в добыче «Капитальной».
— Нет! — Рогов быстро выпрямился. — Я не верю в эту закономерность. Извините. Все кругом так стремительно набирает скорость, а тут этакие «эволюционные» теории.
Он заговорил опять без жестов, глядя прямо в лицо собеседника:
— Не дальше, как через полгода и трест и комбинат спохватятся, и начнется нездоровая гонка. Почему? Очень просто. Нижний горизонт не развивается, даже проходка главнейших выработок — этого станового хребта для очистного фронта — занимает в планах капитальных работ очень незначительное место. Поэтому вчера мы на партбюро приняли специальное решение. Будем просить горком и трест, чтобы они ходатайствовали о пересмотре производственных планов «Капитальной». А пока суд да дело, начнем понемногу стягивать силы на нижний горизонт.
— Значит, не сомневаетесь в пересмотре планов?
— В этом не сомневаемся.
Рогов собрался уходить, и Черкашин уже в последнюю минуту сообщил:
— Направил сегодня в ваше распоряжение инженера Галину Вощину. Здесь ее хвалят. Подумайте, куда определить.
Это известие почему-то испортило настроение Рогову. После вечера у Вощиных он встретился с Галей всего один раз на квартире Тони Липилиной. Поговорили как давние знакомые. Но ему опять безотчетно хорошо было от близости девушки, от того, что так мягко, немного насмешливо лучились ее глаза. Когда шли от Тони, он постарался даже стряхнуть это очарование, заговорил о шахте, о людях, о новой работе, в которую они с Бондарчуком впрягают сейчас всех средних и младших командиров.
— Вы как будто давно нашего парторга знаете? — перебил себя Рогов.
— Да, Виктора Петровича я знаю, — не сразу отозвалась Галя. — А что?
— Я вам завидую и жалею, что сам недавно знаю его. За короткое время он стал на шахте как-то незаметно незаменимым. Понимаете? Он не бегает, не кричит, не требует, даже как будто не тормошит людей, но куда бы вы ни заглянули, к чему бы ни присмотрелись, без труда угадаете: здесь был, над этим думал парторг. Богатый человек!
Галя задумчиво сказала:
— Красивая, сильная душа у Виктора Петровича.
Это был обыкновенный разговор, но Рогов почему-то часто вспоминал о нем. Вспоминал лучистый, чуть насмешливый взгляд девушки, ее хорошую, открытую улыбку, когда она смотрит на собеседника и словно бы говорит: «Как хорошо жить!»
«Ну и что же? — спрашивал себя Рогов. — Какое мне, собственно, дело до всего этого?»
Давно уже сжился он с образом Вали, выносил его в своем сердце, не разлучался с ним ни в горе, ни в радости. Когда еще на фронте наизусть читал солдатам «Жди меня», ~~ это он Вале читал, думал о далекой Сибири, думал о Вале.
А теперь вот все чаще круто обрывал фразы в своих письмах к ней, все чаще спрашивал: «Скоро ли?»
«Я все понимаю, — отвечала она недавно, — и я тоже немного устала от всех этих проволочек. Но, мне кажется, мы ни в чем не виноваты друг перед другом. Сознаюсь, Рогова я немного ревную, — нет, не к шахте, а к тем людям, которых он видит каждый день, которые любят его. А Рогова ведь нельзя не любить?»
И вдруг эти нечаянные встречи с Галей. Он чувствовал, что в чем-то уже виноват перед Валей.
Вернувшись на шахту, Рогов около часа просматривал штатные списки, стараясь выкроить что-нибудь на проходку уклона. Потом пришел Григорий Вощин. Веки у него припухли от бессонницы, но глаза темноватые, взгляд нацеленный, словно проходчик держит что-то особо важное в памяти и боится упустить это из виду.
После того как вчера вечером сообщили о неудаче Григория, о том, что он ушел со смены даже не помывшись, Рогов сразу же поехал на дом к Вощиным. Открыла Екатерина Тихоновна и, увидев инженера, словно бы испугалась. Он шепотом осведомился, дома ли мужчины. Екатерина Тихоновна молча показала на двери горницы и снова посмотрела так, что он без труда понял: боится она за сына.
Раздеваясь, услышал за стенкой раскатистый бас старого проходчика:
— Это называется шахтерская наука. Другой раз не подкумполит, И нечего тут кисели разводить, садись-ка за стол, да посчитаем оба-два, что к чему.
Перешагнув порог горницы, Рогов с облегчением подумал: «А ведь обошлись бы и без меня!»
Пробыл он у Вощиных недолго, ограничился только коротким расспросом о том, что же произошло на смене, как это получилось, что Григорий упустил кровлю сразу в двух забоях?
Григорий ответил коротко, что не удержался и, когда смена пошла полным ходом, рванул, решив на деле исправить собственные расчеты.
— Значит, рванул? — переспросил сейчас снова Рогов.
В ответ Григорий на минуту плотно сжал губы, глянул на инженера открыто и заговорил глуховато, как будто впервые за день:
— Я все думаю, Павел Гордеевич: чего же мне нехватило? Ведь считали мы правильно, изъяна в графике нет, забои обыкновенные — все честь-честью. Как же так получилось, что я рванул? Ведь я у отца не один год учился. Чего же мне нехватило?