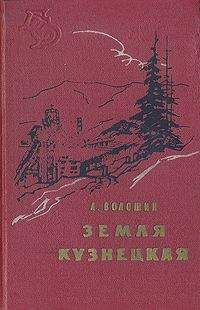— Да, да, это для Тони! — подхватил Черепанов. — Мы же советовались, что бы такое ей купить. Завтра тронемся. Пианино Митенька в кармашек сунет, фикус этот в платочек завяжем, Санька вон по пути прихватит маневровый паровоз. Вполне торжественно получится. — Он с сожалением посмотрел на покупателя и сразу переменил тон: — Эх ты! Человек же больной. Слышал, что Степан Георгиевич рассказывал? А ты с целым оркестром, да еще этакий телеграфный столб!
Взмахнув косами, Аннушка круто остановилась и недоуменно развела руками.
— Вообще, Митенька, характер у тебя безобразный, все с какими-то заскоками. Что нам делать с твоим характером — ума не приложу. Тебя доброта распирает, у тебя хорошее сердце, — так ты иди вперед, показывай пример остальным, не допускай, чтобы тебя постоянно в сторону заносило. Ну хоть бы посоветовался!
— Главное не по-человечески получается! — воскликнул Лукин. — Это же не подарок, а как бы сказать?.. Оборудование!
Митенька сидел все время, упершись грудью в стол, но вдруг выпрямился, убрал маленькие вздрагивающие руки с клеенки, почти испуганно оглядел товарищей и спросил:
— Чего вы со мной делаете? — Потом заговорил бессвязно, глотая звуки: — Я это Тоне… Она воевала. Я учился. Матка у меня, сестренки… Здоровые все. Может, потому, что Тоня была там… Я бы кровь ей отдал, а вы!..
Стало очень тихо. Было слышно, как стукают часы на стене.
Щеки у Аннушки зарозовели, она растерянно оглянулась на бригадира, на Чернова, точно спрашивая: «Что ж вы молчите?» Но в это время к Митеньке подошел Данилов, взял за плечи, заглянул в лицо и крепко прижался губами к его щеке.
Решили, что пианино и фикус пока постоят в общежитии, а там можно с самой Тоней посоветоваться, как быть. А потом, в течение всей остальной беседы, Митенька как-то невольно оказывался в центре внимания товарищей — то Степан вне очереди подливал ему горячего чая, то Сибирцев тянулся с только что распечатанной пачкой папирос. Митеньку сегодня словно заново увидели.
Прежде чем Данилов сообщил о причине нечаянного собрания, Черепанов сказал, что завтра, пожалуй, можно начать основной жим по всем трем сменам. Только дружно и не задыхаться — расчет не на один день. А то на шахте будет кое-кто сомневаться, скажут, что рвут ребятки…
— Уже сомневаются! — перебил Степан.
На него недоверчиво посмотрели, но он повторил:
— Честно говорю, сомневаются. За этим и пришел.
Это был хороший, памятный вечер для комсомольцев.
Передал Степан по-своему, как ему на сердце легло, весь разговор Бондарчука с Роговым. О коксе рассказал, о нижнем горизонте… О крутом повороте, перед которым встала сейчас шахта. Что же, правильный это поворот. Рогов ведь тоже знает это и, по правде сказать, не в силах людей сомневается, а боится он, что очень уж трудно придется первое время таким, как вот они.
— Непременно трудно, — подтвердил Черепанов.
— Ну и что же? — удивился Сибирцев.
Аннушка пытливо всматривалась в задумчивые лица товарищей. Чернов что-то быстро писал в блокноте. За окном, в далеких ночных сумерках, хлопотливо покрикивал маневровый паровичок.
Изменился какой-то отрезок на их пути — так это все почувствовали и приняли. Но самое главное — они и по новой дороге идут опять все вместе.
— Как же решаем? — спросил Черепанов. Данилов, а за ним Лукин даже плечами пожали.
— Какой может быть разговор…
— Степан Георгиевич… — бригадир невольно опустил взгляд, но через секунду уже прямо посмотрел в глаза Данилову. — Степан Георгиевич, на нижнем горизонте лавы пологие — мы будем уже не забойщиками, а навалоотбойщиками. Там весь уголек на ленту лопатой приходится…
— Ну?
— Трудновато это, Степан Георгиевич…
Данилов понял, глаза его с медным отливом метнули искорки.
— Что ж ты мне предлагаешь? В парикмахерскую?
Черепанов покраснел, но глаз опять не опустил.
— Нет, я не об этом. Чтоб ты надеялся на бригаду.
Данилов задумчиво покачал головой, улыбнулся.
— А я надеюсь, Миша. И на себя тоже. — Он обратился к Ермолаевой: — Слушай, Аннушка, сегодня мне записали сто шестьдесят пять процентов, но я обрадовался не этим процентам, а тому, что они мне легче дались, чем первые сто. Не знаю, как у меня будет на нижнем горизонте, плохо, наверно, но я выберусь! Вчера Тоня мне прямо сказала. — Степан осекся, быстро оглядел товарищей и спросил упавшим голосом: — А вы что, сомневаетесь?
Сибирцев трубно откашлялся; потом в разговор вступила Аннушка.
— По-моему, мы не тем занимаемся, — сказала она, — обхаживаем друг друга, будто впервые встретились. Давайте решать: переходим на нижний горизонт?
Сибирцев предложил:
— Немедленно заявить об этом Павлу Гордеевичу и Виктору Петровичу!
Аннушка запротестовала:
— Нет, это не годится, мы не имеем права заскакивать вперед, пока поворот на шахте не начался. Когда управление и партбюро обратятся к коллективу за советом, мы будем готовы. Правильно? А сейчас…
— Начинать, к чему готовились! — подытожил Черепанов.
И всем сразу стало как-то легче.
Заговорили о вещах, как будто не имеющих прямого отношения к работе. Санька Лукин, как обычно, стал жаловаться на плохую воспитательную работу.
— Что такое?.. — Он широко разводил руками. — Куда ни посмотришь — никакой воспитательной работы.
Но к жалобам Лукина о воспитании давно привыкли и прощали ему эту маленькую слабость. Любил Санька, чтобы с ним не просто говорили, а чтобы его именно воспитывали. В этом, по его мнению, было что-то чистое, человечное. Ему казалось, что люди-воспитатели приподымают его над землей, согревают своим дыханием, открывают в его собственном сердце такие родники силы, о которых он и не подозревал. В представлении Саньки люди вообще делились на две категории: на тех, кто учит, и тех, кто учится. Но и к учителям жизни, к воспитателям, молодой шахтер предъявлял очень высокие требования. Об одном он говорил:
— Да-а… этот воспитывать может.
О другом наоборот:
— Так себе… Все понятно, но он больше на вчерашнюю газету нажимает.
Сегодня Лукин почему-то вспомнил о докладе, который слышал еще на прошлой неделе. Во-первых, докладчик был неправильный. Зачем таких присылает горком комсомола? Говорил он о любви, о дружбе, а сам, наверно, никогда не дружил и не любил — говорит, а сам в ладошку зевает.
Аннушка кивнула. Она уже скандалила в горкоме по поводу этого доклада. Вот позавидовать можно Саньке Чернову — как действуют на людей его простенькие корреспонденции. Это, конечно, потому, что слова у него доходчивые, от сердца. Как-то еще по случаю первой победы черепановцев он написал даже поэму «Молодой Кузбасс». А так как редактор отказался печатать этот литературный труд, сославшись на то, что у него газета, а не художественный альманах, то автор просто переписал поэму и повесил над кроватью Черепанова, чем бригада очень гордилась, выучив наизусть бесхитростные стихи.
Сибирцеву с Даниловым нужно было с утра на смену, они отошли в сторонку посоветоваться.
— Может, завтра и двинем первый разок? — спросил Степан.
Сибирцев подумал.
— Кто его знает, как с лесом…
— Предупредим Дубинцева, это же горячий парень.
— Всю лаву, пожалуй, многонько… — Густые брови Георгия расползлись в усмешке. — Как бы жила не лопнула…
— Нет, всю! — Степан выпрямился и даже выше ростом стал.
Они встретились взглядами, но ничего не успели сказать друг другу: перебил телефонный звонок.
Однако прежде чем кто-нибудь взял телефонную трубку, в коридоре загремело, и в комнату ошалело ворвался Алешков.
— Провалился, — сказал он и глотнул воздух, потом еще раз глотнул и добавил: — Григорий Вощил! Два забоя закумполило.
Снова зазвонил телефон. Степан машинально потянулся к телефонной трубке, послушал и вдруг уронил в тишину:
— Товарищи… с Тоней плохо!
А через несколько секунд все они почти молча бросились к выходу, загрохотали по лестнице. Взвизгнув блоками, с треском захлопнулась дверь в подъезде.
Из-за горы Елбань поднимался день-бокогрей, шахтерский город поклонился ему сотнями розовых дымочков.
На широкое каменное крыльцо из больницы вышли Аннушка, Чернов, за ними Черепанов, Сибирцев и последним Данилов. Стукнула дверь, и сейчас же гулкое эхо прокатилось в крутых логах, по синим нагорным снегам, под которыми никогда не умолкают светлые родинки.
Всего минутой раньше, спустившись из верхних палат, доктор Ткаченко оглядел утомленные лица комсомольцев, торопливо протер очки и негромко молвил:
— Уснула. Слышите? Говорю, уснула! И хватит вам…
Сибирцев не дал ему досказать, обхватил неожиданно своими могучими ручищами, прижался небритой щекой к его лысине.