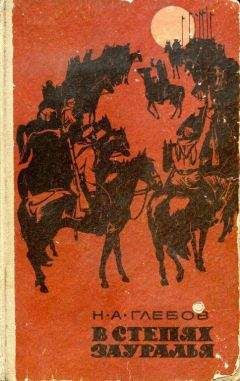В один из ненастных вечеров к домику Марии Андреевны Антроповой, где скрывался от белогвардейских ищеек Александр Зыков, начали стекаться по одиночке какие-то люди. Условный стук, короткий пароль — и в небольшой комнате дома Антроповой стало тесно.
Собрание открыл Зыков. Окинул взглядом собравшихся и произнес глухо:
— Товарищи, все вы знаете, что в уфимской тюрьме зверски зарублены Лобков, Соня Кривая и ряд других борцов революции. На днях контрразведка арестовала Зайковского и Плеханова, оба они из партячейки паровозного депо. Как стало известно, товарищ Плеханов после мучительных пыток расстрелян. Судьба Зайковского пока неясна. Предлагаю почтить память павших минутой молчания.
Участники собрания поднялись с мест. Зыков продолжал:
— Уходя из жизни, они завещали нам еще крепче держать в руках красное знамя революции и беспощадно бить врагов. Час расплаты с колчаковцами настал. Красная Армия взяла Златоуст и двигается к Челябинску. Мы должны помочь ей овладеть городом. Для этого нужно поднять рабочих железнодорожного узла и заводов города на вооруженное восстание, — произнес он веско и, выдержав паузу, спросил: — Все ли готово?
Послышались голоса:
— Ждать нечего, завтра с утра надо начинать.
— Боевая дружина сформирована. Ждем сигнала к выступлению.
— Чьи десятки в нее вошли, я уже знаю, — заметил Зыков. — Давайте сейчас обсудим план выступления.
Собравшиеся сгруппировались вокруг стола у карты Челябинска.
— Завтра по сигналу паровозного депо поднимайте дружинников на борьбу. Проверьте, все ли готово у вас, товарищи, — подняв от карты голову, сказал Зыков. — Задача ясна? Еще раз повторяю: колчаковцы должны быть ослаблены до прихода частей Красной Армии. Я получил сведения, что ее передовые части приближаются к Челябинску. А теперь расходитесь по одиночке. Товарищей Комарова, Рупасова, Башкирова и Рослова прошу остаться, — заявил он руководителям боевых десяток.
Утром 23 июля город был разбужен ружейной и пулеметной стрельбой. На подступах к окраине «Порт-Артура» ухнула пушка. Заканчивалась заключительная страница героической борьбы за освобождение Челябинска.
Стремясь во что бы то ни стало удержать город в своих руках, командующий третьей колчаковской армией генерал Сахаров свел отдельные части в один сводный отряд, но все было напрасно. Дружинники повели решительное наступление на белых. Особенно упорный бой развернулся на окраине железнодорожного поселка. Колчаковцы вели там усиленный огонь. Они знали, если будет сломлено сопротивление железнодорожников, разбить отдельные группы рабочих заводов и мельниц будет уже легче.
Дружинники стойко продолжали держаться, но численный перевес был на стороне колчаковцев, и кое-где повстанцы начали отступать. Положение осложнялось еще и тем, что вражеский бронепоезд, маневрируя, не прекращал огня. В железнодорожном поселке начались пожары. Вдруг страшный грохот потряс станционные постройки и зловещим эхом пронесся над городом. Стрелочник Курмышкин во время очередного маневра бронепоезда пустил его по главному пути вразрез стрелок. Произошло крушение. Создалась пробка, остановились поезда с воинскими частями и боеприпасами, идущими на помощь колчаковцам. Задержалась эвакуация ценного оборудования. Среди белых началась паника. Ее усилили толпы беженцев, заполнившие привокзальную площадь и подходы к ней. Подрывная группа Рослова разобрала железнодорожные пути в районе разъезда Шершни и тем самым значительно ослабила оборону колчаковцев. Двадцать четвертого июля на помощь восставшим рабочим в город вошли с боем, 243-й полк и отдельные части 242-го полка. В тот день в руки красноармейцев и рабочей дружины попало два бронепоезда, 32 паровоза, три тысячи вагонов с углем и военным имуществом и полторы тысячи пленных. Победа за Челябинск была полной.
* * *
Путь от уездного города до Косотурья не близок, и только через три дня на четвертый Лукьян подъехал к своему дому. Расседлал коня и привязал на выстойку. Поднялся на высокое крыльцо и пнул подвернувшуюся под ноги кошку. Долго плескался у рукомойника и, пригладив волосы, уставился на Митродору:
— Ну!
Женщина торопливо стала собирать на стол. Налила щей, нарезала хлеба, поставила гречневую кашу и, подперев щеку рукой, встала у опечка. Лукьян истово перекрестился и взялся за ложку.
— Поправить стол, — сказал он сердито и посмотрел на жену исподлобья.
Митродора пошарила глазами по столу.
— Восподи! Солонку забыла поставить, — хлопнула себя по бедру и принесла соль.
Насытившись, Лукьян вылез из-за стола и долго крестился на медный восьмиугольный крест, висевший в переднем углу.
— Как съездил? — робко спросила Митродора.
— Не корыстно, — зевая, Лукьян выпустил протяжный нечленораздельный звук и почесал пятерней затылок. — Гуртоправы скот угнали к красным, и те то и гляди явятся сюда.
— ...Да расточатся врази его... — зашептала Митродора молитву.
— Чем читать чичас Ефрема Сирина[12], лучше бы золотишко припрятала.
— А куда его деть, Лукьян Федотович?
— Положи в «чертов» ящик.
— Что ты, что ты, — испуганно замахала руками Митродора. — Даже близко не подойду.
Еще прошлой зимой в бытность в Челябинске пьяному Лукьяну пришла в голову шальная мысль купить граммофон.
— Вот это диво так диво, — прослушав пару пластинок в магазине, произнес он довольным тоном и попросил завернуть покупку.
Собрал в дом стариков соседей. Ничего не подозревавшая Митродора помогла мужу установить граммофон на столик. Лукьян покрутил ручку инструмента, и неожиданно для гостей и Митродоры в горнице из большой трубы раздался бас:
Я тот, чей взор надежду губит.
Я тот, кого никто не любит.
Митродора испуганно заморгала и дико вскрикнула:
— Бесовское наваждение! — Схватила граммофон и махнула его за дверь. Там еще успело прогреметь: «Я враг небес...» — Затем что-то звякнуло.
Старики, толкая друг друга, торопливо выбрались из горницы.
— В доме враг небес! Враг небес! — истерично выкрикнула Митродора и упала на пол.
Струхнул и сам хозяин.
— Лешак меня хватил его купить. Ишь чо наделал. И как это мне подсунули «врага небес», просто диво. Когда покупал, приказчик играл на граммофоне какую-то городскую музыку. Привез домой, а в граммофоне нечистый дух оказался. Надо, пожалуй, святой водой окропить, поди, все еще там сидит. — Лукьян с опаской поднял отлетевшую при падении ящика граммофонную трубу и поставил в угол. Взял бутылку со святой водой, побрызгал на ящик, приложил к нему ухо — не слышно ли там какой-нибудь возни, — и, подхватив его под мышку, унес в саманницу, положил вместе с трубой на вышку.
И вот теперь на предложение Лукьян а спрятать золото в граммофонном ящике Митродора замахала руками:
— Боюсь я, Лукьян Федотович. Когда исшо выбрасывала в сенки, он возопил: «Я враг небес». Поди, сам чуял?
Лукьян сплюнул; с бабой говорить, что в стену горох лепить.
— Тебе говорят, дура ты стоеросовая, что эта городская машинка сама поет. Принеси лучше деньги, — распорядился он.
Золото было спрятано в граммофонный ящик. К вечеру приехала встревоженная Феврония.
— Красные идут. Что будем делать?
— Сам не знаю, — хмуро ответил Лукьян. — Похоже, отторговались мы с тобой. Быков угнали. То и гляди за домашностью явятся.
Феврония поняла, что дельного совета от отца не получить, и, посмотрев бесцельно в окно, сказала:
— А если уехать?
— Куда?
— На первых порах в Омск, а там видно будет.
— Да как это так? — развел руками Лукьян. — Бросить все, что нажито и ехать за тридевять земель. Да ежели я каждую копеечку сколачивал, ночи недосыпал, а таперича, выходит, отдай все бесплатно товаришшам? — произнес он зло. — Не отдам — и все.
— Тебя спрашивать не будут, — не отводя глаз от окна, ответила бесстрастно Феврония. — Возьмут и так.
— Да ты што, как вещая птица гамаюн, заладила одно: возьмут, возьмут! — сердито заговорил Лукьян. — Да я все машины сожгу, скот прирежу, — пристукнул он кулаком по столу.
— Посадят в тюрьму, — продолжала тем же тоном дочь.
— Феврония! Ты меня не заводи. Не ровен час, хлестну чем-нибудь. Ндрав мой знаешь.
— Знаю. — Феврония устало махнула рукой и повернулась от окна к отцу, — Я приехала к тебе за советом, а от тебя, как от дряблой репёны, никакого толку. Так, хорохоришься только. А я вот решила все отдать красным, — заговорила она решительно. — Остаться в одной становине[13]. Но уж дождусь своего часа — тогда им не поздоровится. Я их, милых, распотешу. — Глаза прищурились, как у злобной рыси, крылья носа затрепетали, вся она была воплощением ненависти. Лукьян с нескрываемым восхищением посмотрел на дочь.