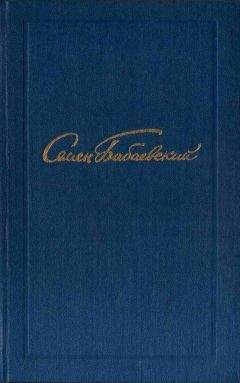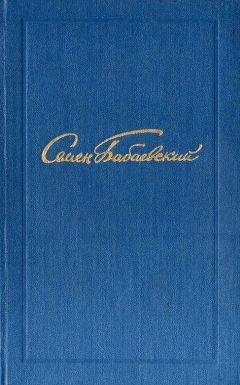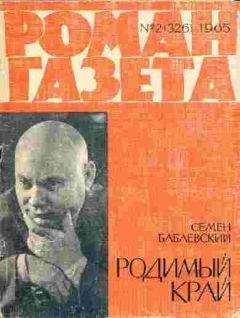— Чем же плохо? Стараюсь.
— Никакой механизации.
— А-а, ты вот о чем. Зачем она мне, механизация? — И рассмеялся. — У меня же не комплекс.
— А все же с механизацией лучше… Нажал кнопку и все заработало.
— Ну, входи, Катюша, в дом, входи! Посмотришь мои хоромы.
— Что-то не хочется.
— Не понимаю и даже удивляюсь. Это же теперь все твое! Тебе здесь жить, и ты, как хозяйка, обязана знать, как и что в доме, черт! Я сейчас должен уехать, работа, понимаешь, не ждет. Я и так уже изрядно задержался. А ты оставайся, займешься хозяйством…
— Мне здесь оставаться?
— А кому же? Тебе!
— Одной?
— Зачем же? Вечером я приеду. А зараз расскажу и покажу, что и как нужно делать. Ты же смекалистая — без моей подсказки все сумеешь. Плита у нас газовая, так что пойло для кабанов и без механизации приготовляется легко и просто… Да входи же в дом! Чего испугалась?
— Никита, я не останусь. — Катюша тихонько усмехнулась, играя озорными глазами. — И я не испугалась, не из пужливых. Не хочу оставаться.
— Интересно… Я же привез тебя… Выручи, Катюша, подсоби!
Катюша молчала. Она отошла еще дальше, и лицо ее вдруг помрачнело. Ни улыбки, ни озорства в глазах.
— Не дури, Катюша! Прошу, умоляю!
— Зачем меня просить, не надо. Подумай, Никита, зачем мне все это? Поеду в Подгорный, меня там ждут.
— Кто? Гуси, утки, курочки?
— А хоть бы и они. Успеть бы к автобусу.
— Как же я? Без тебя…
— А что? Живи, как жил.
И Катюша ушла, тихо прикрыв калитку. Никита не позвал ее, не кинулся ей вслед. Ослабли, подкосились ноги, он опустился на ступеньки, картузом вытер лоб и, сжимая ладонями кудлатую голову, долго сидел не двигаясь. Одолевали мысли, наползали одна на другую. Никак не мог Никита понять, что же случилось с Катюшей. И что означают ее слова: «Подумай, Никита, зачем мне все это?» Одна у него была надежда — на Катюшу, и вот Катюши уже нет, а он сидит, согнувшись, со своими думами. «Странно и непонятно устроена жизнь. Я же хотел сделать тебя счастливой, чтобы ты ни в чем не нуждалась, а ты убежала, — мысленно он обращался к Катюше. — Знать, не приучена ты к жизни богатой, обеспеченной? А к какой житухе приучена? К своей бедности да к своим дежурствам? Так, что ли? Нет, тут что-то не так, а что именно — не разберу. И чего ради, дура ненормальная, ушла? Что же мне теперь делать? — Невеселая улыбка тронула пересохшие губы. — Знаю, знаю, что мне делать! Первое — это накормить и напоить животных, не погибать же им с голоду»… Хотел сразу же заняться делом и не мог. Вошел в дом, лег на диван, курил. «Любить меня, спать со мной она приучена и вполне могла бы привыкнуть и к моему дому, — думал он. — Испужалась — это же факт… „Никакой механизации“… Ишь чего ей захотелось!»
Никита решительно поднялся и сказал:
— Хватит, брошу работу! Обойдусь и без автобазы, и без жены, черт! Буду жить один!
Никак не ждал Никита, что в жизни у него произойдет, и так неожиданно, этот страшный разлом. То ушла от него Клава и увела детей, то вот Катюша испугалась чего-то и убежала. «И за что на меня такая напасть? — думал он, сидя за столом и глядя осоловелыми, полными слез глазами на недопитую бутылку. — Кому я встал поперек горла? Может, Максиму Беглову или его сестре Дарье?»
Раздумывая над тем, что же произошло с ним в последнюю неделю, Никита сравнивал себя с сорвавшимся со скалы камнем: отломившись от скалистой вершины, камень падает, ударяясь о другие, от него отлетают осколки, а он катится и катится, и остановить его уже никак нельзя. «Вот и я падаю… А куда? В пропасть»… И как только он сравнил себя с падающим с горы камнем, ему стало еще тоскливее, и он наполнил стакан водкой и выпил. Думал, что водка хоть как-то взбодрит душу, поднимет настроение и тогда он найдет выход из создавшегося положения. Ему хотелось понять, когда и как это с ним случилось. Может быть, в тот день, когда от него ушла Клава? Или еще раньше? А может, когда он был парубком и мечтал о своем доме? Или, возможно, когда женился и вместе с Клавой с какой-то особенной душевной радостью строил свой дом? Но разве тогда, возводя стены и ставя стропила, он мог знать, что придет час, и он вот так, охмелевший, один останется в своем доме? Самым страшным для него было то, что он не знал, как станет жить завтра. Перед ним образовался тупик, и из него не было выхода. Никита снова выпил водки, ничем не закусывая, обнял голову руками и повалился на стол. Не заметил, как стемнело, пора бы зажечь свет, а ему не хотелось подниматься: в темноте, как ему казалось, легче думать.
А думал Никита все о том же: как ему теперь жить? Сегодняшний день прошел, радости не принес… А что же завтра? Куда свернуть, какой пойти дорогой? Вопросы и вопросы, один заковыристее другого. И вместо того, чтобы искать правильные и так нужные ему сегодня ответы, Никита, не поднимая отяжелевшую голову, почему-то возвращался либо к Клаве и детям, либо к недавнему разговору с Максимом Бегловым.
В тот день, когда он получил расчет и возвращался домой, Максим, как на беду, стоял возле своего двора. То ли он нарочно поджидал Никиту, то ли случайно оказался за воротами, а только — хочешь или не хочешь — пришлось остановиться и поздороваться.
— Что, сосед, такой пасмурный? — спросил Максим. — Будто и дождика не предвидится.
— Нету причины для веселья, — глухо ответил Никита. — Вот получил полный расчет… Потрудился для общего блага — хватит!
— Как же собираешься жить? Один, без семьи и без автобазы?
— Ты что? Жалеешь или изгиляешься над моим горем?
— Сочувствую. Как-никак и родичи, и соседи.
— Может, так сочувствуешь, как твоя сестра Дарья? Специально пришла на профсоюзное собрание, обвиняла, как прокурорша.
— Нечего, Никита Андреевич, обижаться на собрание и на мою сестру. Я уже говорил и еще скажу: сам ты во всем виноват… Жалко Клаву, детишек, да и тебе, вижу, нелегко.
…Тяжелела, точно наливаясь свинцом, охмелевшая голова, болели виски, затылок, и то, о чем Никита не хотел думать, легко приходило на ум, а то, что хотел понять, осмыслить, рвалось на куски, путалось. Все так же наваливаясь грудью на стол, он кулаками зажал глаза и вдруг явственно увидел стоявшую в сенцах канистру. Это он когда-то поставил ее здесь, наполненную бензином. Теперь он мысленно подходил к канистре, уносил ее во двор, искал в кармане спички и не находил. Слышался ему голос Дарьи. Что-то она говорила тогда, на собрании. А что? Никак не мог вспомнить. Он прислушался: это, оказывается, были слова не Дарьи, а Клавы. «Никита, у тебя нету спичек, — говорила Клава. — Вот они лежат, возьми их и все кончи сам… Только иди смелее»… То слышался насмешливый голос Катюши: «У тебя нету никакой механизации»… То проникали в сердце обидные слова сына Виктора: «К тебе, отец, мы не вернемся, останемся у тети Нади»… Это было сказано совсем недавно и с наивной детской строгостью. Как-то Никита подкараулил сыновей, когда те выходили из школы, обнял их и увел домой, обещая угостить ранней клубникой. Он сбегал на огород, нарвал полную тарелку темно-красных крупных ягод, поставил их на стол, в блюдце насыпал сахару.
— Макайте в сахар, она еще не очень сладкая.
Смотрел, как мальчуганы, нелюдимые, хмурые, словно бы чужие, нехотя ели клубнику, и удивлялся: что случилось с сыновьями? Чего они так дичатся? Виктор, первым покончив с клубникой, отошел от стола, взял свой портфель. Его примеру последовал и Петя.
— Вас распустили насовсем? — спросил Никита.
— Угу, — ответил Витя. — На каникулы.
— Ну как окончили четвертый класс? Какие у вас отметки? Можете порадовать отца?
— Мы пойдем, нас мама ждет, — вместо ответа сказал Витя, отводя в сторону глаза. — К тебе, отец, мы не вернемся, останемся у тети Нади.
— Витюша, сынок, кто это — мы?
— Мама, я и Петро.
— Понятно… А почему не вернетесь? Вы же мои сыновья!
Не поднимая чубатых голов, мальчики молчали.
— Петрусь, и ты ко мне не вернешься? Ты же по натуре ласковый… Как, а?
— Я как мама и как Витя, — ответил Петя и со слезами на глазах посмотрел на отца. — Если мама и Витя…
«Если мама и Витя»… И опять Никита видел ненавистную ему канистру. Да как же это так? Только что говорил с Витей и Петей, и вот уже снова перед глазами стояла канистра. Да и зачем она ему? И чего ради он думает о ней? Было время, и думал о канистрах, и носил их, и наполнял горючим. Вспомнил, как и эту когда-то снял с кузова и принес в сенцы. Клава похвалила, сказала, что бензин в хозяйстве пригодится, можно одежду почистить и вообще… «Вот и пригодился бензин, только не для чистки одежды, нет»… Теперь Никите казалось, что он навалился грудью не на стол, а на канистру, нюхал ее, а она, оказывается, не пахла бензином. «Так ты что, разлюбезная, вся уже выдохлась, опустела? Или, может, думаешь, что у меня нету спичек? Ошибаешься, моя хорошая… Есть, есть спички, за ними дело не ста нет. Вот сперва бы обмозговать все и как следует, а тогда уже»… А что оно такое — «тогда уже»? — он не знал, и, возможно, поэтому мысли о канистре и о спичках пугали его. А тут еще эти голоса — то Максима, то Клавы, то Вити и Пети: «Никита, ты сам повинен во всем»… «К тебе, отец, мы не вернемся»… «Никита, у тебя нету спичек, а вот целая коробка, возьми… и все кончи сам»… Что «кончи сам»? Клава так и не сказала. Да он без ее подсказки теперь уже знал, что ему нужно кончать, теперь поучать, уговаривать его не надо. Знал он и о том, что все кончить можно быстро… Но надо еще думать и думать, а голова словно бы раскалывалась. Он хлебнул из горлышка бутылки и, опираясь руками о стол, с трудом поднялся. Казалось, никогда он еще не чувствовал такую тяжесть в ногах и в руках. Немного постоял и пошел, покачиваясь. В сенцах отыскал канистру — нет, не ту, что привиделась ему, а настоящую, — вынес ее из сенец и поставил возле крыльца. «Вот тут и побудь покедова, а когда потребуешься, то я сам к тебе припожалую… Что, хочешь спичку? А кукиш с маслом не желаешь? Вот они, спичечки, в кармане, слышишь, подают голос, а вот ты их от меня не получишь, не жди, не надейся»…