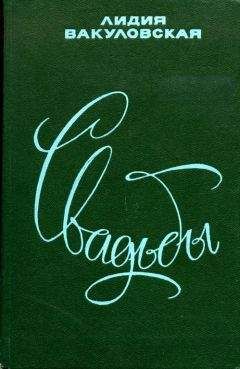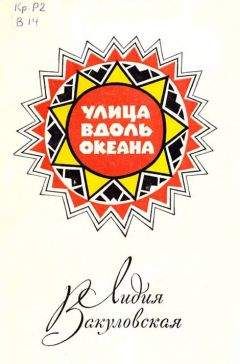Солнце успело убраться с неба, луна поднялась повыше. На серых крыльях опускались с высоты на остров сумерки, и Степан понимал, что пурга вот-вот разойдется во всю прыть и на всю ночь.
Чужие собаки, запряженные в нарты, завидев издали Степана, подняли неистовый лай. К их хору присоединились его собственные собаки, закрытые в сарае, пристроенном трехстенком к избушке.
Подъехав на лыжах поближе, Степан узнал вожака упряжки Бубна, прикрикнул на него. Вожак тоже узнал Степана и тотчас умолк, заставив тем самым стихнуть других собак.
Из избушки вышел хозяин Бубна и всей упряжки Толик Каме, молодой чукча, невысокий, присадистый, с коричневым лицом и черными с просинью волосами, которого Степан знал с мальчишек.
— Привет, батя! — протянул ему руку Толик и крепко тряхнул Степана за руку. Все островитяне — чукчи и русские, молодые и старые — одинаково звали Степана батей.
— Здравствуй, здравствуй! Вот удружил, что заехал, — отвечал Степан и спросил: — Ты в колхоз или на полярную?
— В колхоз. Ревизора везу. Из Магадана прилетел, — говорил Толик. — Замерз он шибко. Думал, посидит часок у печки — дальше поедем. Теперь ночевать будем, раз пурга идет. Надо собак распрячь и покормить не мешает.
— Сейчас покормим. И я своим брошу. У меня и нерпы и рыбы довольно.
Степан снял лыжи и рюкзак, понес их в сарай. За ним, пригнувшись от встречного ветра, пошел Толик, застегивая на ходу ватник и опуская клапаны лисьей ушанки.
Молчаливый и робкий не столь давно, ветер уже набрал силу и обрел свистяще-хриплый голос, став настоящим ветром. И этот ветер начал быстро замешивать в низине пургу, гоняя с места на место космы снежной пыли.
Задав собакам корм и затащив в сарай нарты, на которых приехал Толик, Степан с Толиком вошли в избушку, отряхнувшись прежде от снега в сенях.
И в кухне и в комнате, примыкавшей к кухне, было темновато, оттого Степан плохо видел лицо ревизора, сидевшего у порога возле топившейся плиты. Ревизор обернулся к вошедшим и приподнялся с табуретки, говоря:
— Похоже, хозяин домой прибыл? А мы тут сами вошли и хозяйничаем.
— Почему же не войти? Дверь у меня всегда открытой оставлена. Разве что от умки колком подопру. В прошлом году залез один, банки с тушенкой все до единой пооткрывал. Да так чисто сработал, вроде ножом вспорол. — Степан подал руку гостю: — Здравствуй, мил человек. Слыхать, из самого Магадана добираешься?
— Да, с ревизией в ваш колхоз, — сказал ревизор с тоской в голосе, снова опускаясь на табуретку. — Неделю в дороге, везде погода нелетная.
— Это верно, погода не жалует, — согласился Степан. — Ну, сейчас мы лампу запалим да будем ужин промышлять. Внеси-ка ведерко угля, плита вроде у вас не дюже горит, — сказал он Толику Каме.
— Угля у тебя, батя, мал-мало осталось. Чем топить будешь, если на неделю закрутит? — ответил Толик.
— Не-ет, этой на неделю духу не хватит. А угля мне в любой час Миронов или Итты трактором подошлют. Только известить надо, — ответил Степан, зная, что начальник полярной станции Миронов и председатель колхоза Итты не оставят его без топлива.
Спустя час на кухне неярко светила старая керосиновая лампа, на столе дымилась тушеная оленина в чугунке, пахло горелым постным маслом, в каком жарилась мерзлая рыба, хранившаяся у Степана возле дома в снежных ямах. Был и чай с галетами, и морошковое варенье, которое что ни осень в большом количестве варила жена Степана. Часть варенья оставляли себе, остальное, упрятанное в целлофановые мешочки и уложенное в посылочные ящики, переправляли детям.
Ревизор отогрелся за чаем, сбросил телогрейку, остался в свитере и ватной безрукавке. Был он пожилой, на вид — шестьдесят, а то и больше. За время длительной дороги он густо оброс седеющей щетиной, не позволявшей четко разглядеть черты его лица, о котором всего-то и можно было сказать, что оно наделено продолговатым носом и небольшими глазами. Глаза отчего-то все время слезились, и ревизор часто промокал уголки глаз тонким платком с вышивкой по краям, скорее женским. Голова у ревизора тоже была седовата, на темени проглядывала лысина, прикрытая зачесанными назад негустыми волосами.
Степан и Толик Каме разговаривали за ужином о разном. Степан рассказал, как повстречал намедни Желтуху с двойней. Толик отвечал, что две молодые медведицы отрыли берлоги возле самого поселка, метрах в ста от колхозного медпункта. У обеих в берлоге по медвежонку, люди носят им мясо, рыбу и сахар. Мамаши людей не боятся, дары принимают охотно, но близко к берлогам не подпускают.
Потом поговорили о прошедшей охоте. Степан и Толик промышляли зимой песца, и оказалось, что Толик обогнал в этом занятии бывалого Степана: взял сотню песцов, а в капканы Степана угодило только семьдесят пять. Пятнадцать шкурок Степан еще не сдал, он попросил Толика забрать шкурки с собой и передать пушнику.
— Заберу, батя. А чем отоваришься? — спросил Толик. — Полярники за мясом в колхоз приедут — заберут тебе твой товар. Или рублями хочешь?
— Ничего пока не надо, — сказал Степан. — Я в райцентр собрался. Вернусь — сам в колхоз съезжу.
Ревизор в основном молчал. Видно, порядком намаялся в дороге и его придавила усталость. Он сидел спиной к висевшей на стене лампе, лицо его, остававшееся в полутьме, казалось помятым и сонным. Но когда Степан с Толиком заговорили о песцовых шкурках, точнее же, когда закончили о них разговор, он спросил Степана, не продаст ли тот пару песцовых шкурок, а если есть, то и шкуру белого медведя.
— С превеликим удовольствием куплю, — сказал он голосом, в каком не чувствовалось никакого удовольствия, а чувствовалась сдерживаемая зевота.
— Нет, мил человек, песцовые шкурки я в колхоз сдать обязан. Такой порядок, — ответил Степан. — А белого медведя, сколько тут живу, ни разу ружьем не повалил. Про нож уж и молчу. Это, считай, сбрешет тот, кто скажет, что умку ножом сразил. Он царь здесь, белый медведь, в нем три-четыре центнера весу. Да разве он тебя к себе с ножом допустит? — усмехнулся в бороду Степан и покачал головой, осуждая подобные бредни досужих болтунов.
— Что ж ты, батя, хочешь сказать — совсем не бьют на острове медведей? — Ревизор тоже усмехнулся. Он не знал имени хозяина и по примеру Толика Каме назвал его «батей».
— Давненько не помню, чтоб кто убил. Раньше бывало, а теперь строго, — сказал Степан.
— Нет, у нас умку не трогают, — вставил свое слово и Толик.
— Ну нет так нет. А то купил бы. Один наш сослуживец богатую шкуру с Чукотки привез, тоже в командировку ездил. На весь диван не поместилась, лапы на полу лежат, — сказал ревизор. Он помолчал и, усмехнувшись, снова спросил: — А может, батя, ты меня боишься? Думаешь, ревизор — значит, опасно? Не бойся, я неопасный, не по этому профилю работаю. Так что, как говорится, бог не выдаст — свинья не съест, — добродушно хохотнул он.
Степан выпрямился на табуретке и приподнял косматые брови, точно его чем-то заинтересовали последние слова ревизора. Потом тоже хохотнул и с предельной ласковостью сказал:
— Нету, мил человек, у меня этого товару. А был бы, я б тебе и так дал, без платы. А теперь, считай, пора нам и укладываться, — неожиданно заключил он, поднимаясь. Снял с гвоздя лампу и сказал ревизору: — Я вам в комнате постелю, на кушетке.
— Да мне безразлично, — ответил тот. — Было бы куда голову приклонить да чем укрыться.
— Это мы найдем, — сказал Степан, и спросил: — А звать-то вас как будет?
— Иван Иванович Толбуев, — ответил ревизор, выбираясь из-за стола.
— Так это мы все найдем, Иван Иванович, — повторил Степан, уходя с лампой в смежную комнату. — И подушку найдем и укрыться. И в печку еще подкинем, чтоб теплей было.
Степан взялся стелить постели в комнате, где был и шкаф, и приемник, и швейная машинка, и кушетка, застланная клетчатым пледом, и кровать с горкой подушек. Толик с ревизором в это время вышли из кухни за дверь. Вскоре они вернулись, запорошенные снегом.
— Погодка, черт бы ее взял! — сказал Степану ревизор, войдя в комнату. — С такой поездкой я и в месяц с делами не управлюсь. Сегодня уж никак на пургу не рассчитывал.
— Кабы мы да управляли ею, погодой, — ответил Степан. — А то ведь не нам она подчиняется — высшей силе подвластна.
— А ты что, батя, в бога веруешь? — спросил ревизор, снимая на пороге комнаты валенки.
— В бога нет, а в знамение судьбы верую, — с раздумьем ответил Степан. — Поздно ли, рано, а случится знамение — и вот оно, никуда не денешься. Ложись, Иван Иванович, отдыхай, — сказал Степан и ушел с лампой на кухню.
Толик бросил на топчан в кухне свою кухлянку, скатал телогрейку, намереваясь использовать ее вместо подушки, но Степан забраковал такую постель. Внес из сеней ватный матрас, а из комнаты подушку с одеялом. Притворив дверь в комнату, он негромко спросил Толика, поведя глазами на закрытые двери: