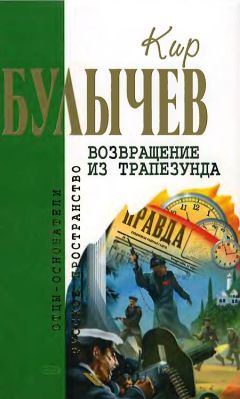— Какой кобель? — серьезно спросил Синеоков.
— Кобель горь! — отчетливо повторил студент и тут же, точно боясь, чтобы не перебили совершенно, зачитал стремительней и певучей:
Песнь пятая.
Безвестя.
Пойми — пойми — возьмите Душу.
Песнь шестая.
Рабкот.
Сом! — а-ви-ка. Сомка! — а-виль-до.
Песнь седьмая.
Смольга.
Кудрени. Вышлая мораль.
Песнь восьмая.
Грохлит.
Серебрий нить. Коромысля. Брови.
Песнь девятая.
Бубая гора.
Буба. Буба. Буба.
— Буба, буба, буба! — повторила Эмма и поглядела изумленно на Ваню, а Хаджи продолжал певуче:
Песнь десятая.
Вот!
Убезкраю.
Песнь одиннадцатая.
Поют.
У-у-у…
Песнь двенадцатая.
Вчерает.
Ю.
Песнь тринадцатая, песнь конца.
Тут студент плавно провел рукою вправо, потом так же плавно влево, потом сделал рукою тщательный кружок в воздухе и сел на свой стул.
— Все? — притворно серьезно спросил Иртышов.
— Ха-ха-ха! — откинувшись назад, разрешенно захохотала Эмма.
Иван Васильич не знал, что ему делать: перевести ли внимание всех на что-нибудь другое, или дать студенту возможность высказаться и раскрыться вполне. Он поднялся и ждал только, когда перестанет хохотать Эмма. Однако раздосадованный этим хохотом Ваня предупредил его, обращаясь к студенту:
— Это — очень трудная форма, — начал он, заикаясь. — Это встречается и у нас в живописи… Это… по-видимому, особый вид искусства…
Тут он сделал длинную остановку, ища слов дальше, а студент, не изменяя лица, как маг, сделал рукою вправо, влево и объяснил:
— Вы заметили, конечно, — последнюю песнь, — «Песнь конца», — я оголосил одним ритмодвижением… Это — поэма ничего, — нуль, — как и изображается графически: нуль!
Тут он прочертил рукою перед своим лицом правильный круг.
— Вам, художнику, — обратился Иван Васильич к Ване, — вам тут и книги в руки!.. У вас с ним общая область… Искусство — великое дело… Мы, профаны, не понимаем, конечно… Но не кажется ли вам, что э-э-э… субъективно это очень?.. Что надо бы… поближе к нам?.. Вот именно: поближе к нам, — к читателям…
— Конечно… гм…
Ваня задумался, но тут весело вмешался Синеоков.
— Искусство — субъективная вещь, — да, — но зачем же до такой степени, чтобы вы мне говорили, а я чтобы ни за что не мог понять?
Отхохотала уже Эмма и теперь сидела, вытирая лицо платком, а студент повернул торжествующе лицо к Синеокову:
— Известно ли вам, что каждая буква имеет цвет, звук, вкус… и вес?
— Вес?.. Вес, — пожалуй! — быстро согласился Синеоков. — Например, вырезанная из картона или слепленная из гипса… И цвет, пожалуй, — в какой ее выкрасят.
— А гипсовая будет кислая, — вставил Иртышов и при этом беспечно переменил колено: охватил руками правое, а левое опустил.
— Это, господа, есть футуризм! — протянул над столом голову и руку Карасек. — Но-о позвольте, господа!.. В будущей всеславянской великой монархии какой должен быть общий язык?..
— Кому что, — этому непременно монархию! — брякнул Иртышов.
— А вам непременно республику? — подхватил Синеоков.
— И она будет!
— Ма-аленького захотели!.. Я вам докладывал уже, что это — коммерческое предприятие самого широкого размаха… и самое убыточное, — вот! И захотели вы этого в нашей нищей стране!.. С печки упасть и чтоб непременно в калоши ногами попасть… Вы знаете, сколько надо для вашей затеи?
— Волю народа.
— Глупости!.. Словцо!.. «Волю народа»!.. Миллиарды, думаете?.. Ошибаетесь!.. Триллионы?.. Мало-с!.. Секстильоны тут нужны, да. А они у вас есть?
— Хва-ти-ли, дяденька!..
— Секстильоны! Секстильоны! Секстильоны!
Страшным, заячьи-предсмертным криком вырвалось это у Синеокова, и он вдруг замигал часто, покраснел и опустился глубже в свой стул; а Иртышов только фыркнул презрительно и еще выше поднял острое колено.
Это и была странная болезнь Синеокова: неудержимо сказать и непременно почему-то три раза кряду, и непременно почему-то не в одиночестве, а на людях, какое-нибудь слово большого, огромного, неизмеримого объема. Не часто это случалось с ним, — раза три-четыре в неделю, но всегда смущало его невероятно. Странность была в том, что слово это подвертывалось ему на язык, казалось бы, и кстати, — даже, пожалуй, никто из тех, кто его слушал, не замечал назойливости этого слова, но его самого это ошеломляло, угнетало, пугало, как присутствие в нем кого-то постороннего ему, — каких-то часов с кукушкой, откуда эта серая тоска в перьях выскочит вдруг незаконно и ненужно, прокукует свое (свое, а не его) и спрячется.
Он сидел теперь очень сконфуженный, не поднимая ни на кого глаз и теребя белую новую клеенку стола, но Ваня спросил его улыбаясь:
— Почему же именно секстильоны?
— Я изъясню! — крикнул Карасек. — Потому что массы захотят несметных богатств, — несметных!.. Они уверены, что они есть, существуют, а их нет!.. — И обратился очень вежливо к Синеокову:
— Так ли я вас понял?
— Да, конечно, — прошептал Синеоков и добавил несколько громче: — Наш бюджет около пяти миллиардов…
И, чтобы скрыть смущение, дотянулся до горки пирожных рукою, но и тут не был в состоянии остановить на чем-нибудь выбор.
— Возьмите вот эту трубочку с кремом! — подсказала ему ласково Прасковья Павловна. — Так прямо на вас и смотрит…
Он застенчиво кивнул ей головою и взял трубочку с кремом все еще дрожавшей смущенно рукой.
— Не нужно так волноваться из-за будущего! — заметил ему Иван Васильич. — Будущее — во мраке будущего… Зачем о нем беспокоиться заранее?.. Оно все равно придет…
— Мы сами куем будущее! — значительно отозвался на это студент, и Иртышов подтвердил:
— Правильно! — и язвительно кивнул Синеокову: — Секстильоны!.. Знает, что мы не допустим банков, и заранее очень на нас сердит!
Синеоков тем временем уже оправился несколько. Он глотал трубочку с кремом и чуть не поперхнулся от смеха.
— Без банков хотите устроить общество? Человеческое? — вскинулся он. — У каких-нибудь муравьев, и у них есть свои банки, я уверен!.. У пчел!.. У ос!.. У бобров-то уж непременно!..
И даже мину крайней неловкости за Иртышова сделал он на своем подвижном лице, отвернувшись.
— Нет, позвольте, зачем же так спорить? — забеспокоился Иван Васильич. — Нет, этого я вам не могу дозволить!.. В пределах чисто академических, — да-а!.. Как известную доктрину… политическую… дебатировать… это другое дело!..
Единственный здесь в военном костюме, хотя и врача, Иван Васильич теперь именно любому со стороны мог бы показаться не хозяином даже здесь, а больше: тем, кому подчиняются и кто может приказать. Лицо у него теперь стало как будто из твердых линий, и даже глаза строгие.
Иртышов поглядел на него безразлично, нашарил далеко от себя крошку, бросил в рот, переменил колено и даже улыбнулся про себя, а Дейнека, все время перед тем молчавший, заговорил вдруг глухо и отрывисто, продолжая, видимо, думать, но только вслух:
— И шахта останется шахтой… Да!.. Какой бы ни придумали строй, — домна останется домной и шахта шахтой…
— Немножко не так! — подхватил Синеоков. — Не только Домна останется Домной, — Марья останется Марьей, — вот что главное!
И чуть толкнул при этом своего соседа о. Леонида, который заулыбался тоже.
— Что он сказал, ну?.. Вит-вит-живо!.. Что он сказал, этот, — ну? — тормошила Ваню Эмма.
— Женщина останется женщиной… при всяком новом строе, — перевел ей Ваня.
— Ну да! — согласилась она, а Синеоков тут же осведомился у нее:
— Вы плохо понимаете по-русски?
— О-о, нет!.. Я из Рига!.. — обиженно вытянула губки Эмма и вздернула правым плечом.
Синеоков сидел к ней и Ване ближе других и не на весь стол, а именно только для них двоих заговорил он оживленно:
— Говорят, есть в Питере один банкир, — большую ведет игру исключительно на внутренней политике!.. С черного хода своей квартиры принимает он неких гусей лапчатых, в немалых, разумеется, чинах… с ними в уголку шу-шу-шу, и сует им деньги, — на бомбы, разумеется… А на бирже пускает сенсацию: «На этой-де неделе будет пять террористических актов: министр такой-то, министр такой-то, горнозаводчик такой-то, великий князь такой-то… и еще одна особа!..» Это, конечно, по уголкам, шепотом, с ужасом на лице величайшим!.. Вообще, — «они начинают!..» У него десятки молодцов, и все работают: «Шу-шу-шу-шу!.. — Начинается!..» К вечеру бумаги летят вниз!.. На другой день паника!.. На третий день банкир скупает бумаги… На четвертый — спокойствие… К концу недели бумаги крепнут, — значит, их можно уже продать, не так ли?.. Разница — так, какой-нибудь миллиончик!.. Сотня тысяч откладывается на прием с черного хода и… на жандармерию, которая, конечно, посвящена в дело!.. И вот, некиим гусям лапчатым говорит он потом с великолепным презрением: