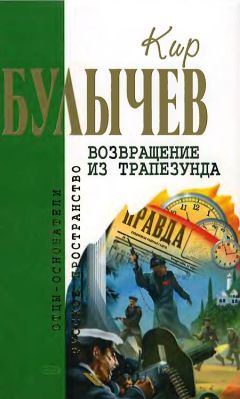«Предатели идеи!.. Трусы!.. Кунктаторы!.. Когда же, черт вас возьми, проведете вы какой-нибудь ваш паршивый террористический акт?.. Как же я при таких обстоятельствах буду?.. На ветер деньги бросать…»
И вот синьоры эти начинают стараться и ухлопывают действительно какого-нибудь губернаторишку в Тьмутаракани… Событие!.. Банкир сияет!.. Правые газетчики строчат: «Гидра революции подымает голову!.. Россия лишилась одного из лучших администраторов… Еще только недавно решено было предложить ему очень высокий пост в государстве, — и вот он убит!..» А левые газетчики между строк очень ликуют: «Наконец-то!..»
Эмма при последних словах захохотала так, что все обернулись в сторону Синеокова, хотя до этого на другой половине стола слушали Карасека.
Иван Васильич, до которого доносилось кое-что из слов Синеокова, заволновался:
— Нет, нет, — и вам я делаю замечание!.. Зачем именно эти вопросы, когда есть множество других?.. Вот Ладислав Францевич прекрасно и обстоятельно… и, надеюсь, тоже в последний раз, говорил о панславизме. Он, можно сказать, до дна исчерпал тему…
— Она есть неисчерпаема!.. Как можно!.. — испугался Карасек и руками защитился от явной нелепости. — Она не имеет дна!.. Она есть бесконечна!.. Континентальна Европа имеет три идеи: романску, германску и славянску… Слияния быть не может: они есть очень различны: три европейских идеи!.. Кто хочет, чтобы был раздавлен?.. Никто не может этого желать… И мы должны до высшей точки довести свою славянскую идею, до высшей точки!.. Мы должны перекинуть друг от друга мосты… пока не поздно… Пока, господа, не поздно!..
— Вы похожи на молодого пророка! — сказал о. Леонид.
Но не смешливо он сказал это, и никто кругом не принял этого за насмешку; а Эмма даже прошептала на ухо Ване:
— Больной человек, — ну?
Пожалуй, блеск его серых глаз был больной, но Карасек имел прямой, стойкий корпус, а очень прямо посаженная на плечи длинноволосая с зачесом назад голова при небольшой бородке, закрывшей подбородок, казалась действительно вдохновенной.
Студент подхватил замечание о. Леонида:
— На пророка, только не библейского… Библейские были брюнеты.
— Царь Давид тоже числился во пророках, однако есть указания, что был он волосом светел и телом бел… И сын его, Соломон, тоже…
— Вот видите, отец Леонид, какие вы нам интересные вещи говорите, — обрадовался Иван Васильич. — Скажите-ка!.. Блондины, значит… А я и не знал… И не думал даже… Но какие все-таки указания?.. Чьи?
— Происходили от готского племени — аморейцев…
— Аморейцев?.. Вот как!
— Амурейцы, конечно, а то кто же! — отозвался Иртышов, хмыкнув. — О своих амурах и писали с большим красноречием!..
— Амореец же был и Сампсон, — обернувшись к нему, продолжал о. Леонид, — который ослиной челюстью побил тысячу филистимлян.
— А вы видели когда-нибудь ослиную челюсть? — весело полюбопытствовал Иртышов.
О. Леонид поглядел на него, вздохнул, собрал в кулак бороду, но не отозвался.
— Зачем это вздумалось вам — из-за границы и опять в наш город? — спросил тем временем студент, испытующе глядя на Ваню.
— Зачем? — Просто, кажется, отдохнуть заехал, — подумавши, ответил Ваня вполне серьезно, но Иртышова так и подбросило от этих слов.
— От-дох-нуть?.. От каких это трудов, — позвольте узнать?
Показалось Ване, что он даже грушу проглотил не прожевавши, чтобы успеть это вставить.
— От каких? А вот попробуйте поворочать мои гири, — узнаете от каких! — улыбнулся Ваня.
— Гири нужны, чтобы вешать… — только начал было что-то свое Иртышов, но Синеоков перебил его быстро:
— А веревка тогда на что?
— Не хотите ли еще чаю? — нежно спросила Иртышова Прасковья Павловна, но отвлечь его чаем не удалось.
— Веревка?.. Когда на нашей улице будет праздник, жестоко мы кое-кого тогда… высечем!.. — и посмотрел почему-то на Эмму.
— Ваня!.. Ваня!.. Он нас… высечет! — визгнула от смеха Эмма.
Ваня же не спеша поднялся со стула, привычным движением расстегнул и сбросил бархатную куртку, и остался до пояса только в трико тельного цвета, показав такие сампсоновы мышцы, что все ахнули.
— А ну-ка, попробуйте высечь, — добродушно поглядел он на Иртышова и сложил на груди руки.
Поднявшаяся рядом с ним Эмма, закусив губы, имела такой решительный, боевой вид, как будто хотела без разбега вскочить на стол, а потом тут же — гоп-ля! — перескочить через голову Иртышова.
Ваня еще только думал, как может отозваться Иртышов на его вызов, но тот вдруг сказал задумчиво:
— Цирки и театры надо будет всячески поощрять: это прекрасный способ воспитания масс.
— Ты слышишь, — ну? — Ваня? Он нас не будет высечь! — радостно вскрикнула Эмма. — Теперь ты можешь надевай свой костюм!
И все захохотали кругом.
Ваня щегольнул еще раз своими бицепсами и медленно натянул куртку снова.
— Од-на-ко! — покрутил головою Синеоков. — Как вы думаете, отец Леонид, нужна ли такому молодцу ослиная челюсть?
— Да-а-а… Это мощь!
— Нет, все-таки о тысячу дураков кулаки голые обобьешь, — серьезно отозвался Ваня: — И какая бы ни была плохонькая челюсть ослиная, она не помешает, а очень поможет.
— Это вы что же, по опыту знаете? — ввернул Иртышов.
— Исключительно по опыту!.. Что бы ни было зажато в руке, хоть пятак медный, — удар будет гораздо сильнее.
— Ну вот!.. Ну вот!.. — почти обрадовался о. Леонид. — Вот что говорят сами Сампсоны! — и посмотрел на Иртышова торжествуя.
Но Иртышов задорно подхватил вызов.
— Сампсоны — продукт усиленного питания… В селе, например, у кого сыновья крупнее? У кулаков!.. А вот в селе Коломенском под Москвой живал когда-то царь, тишайший до глупости, и выкармливал там дубину в сажень росту, — Петра, прозванного Великим… за великие мерзости, конечно…
— Чего, — увы! — не удалось сделать Екатерине, тоже Великой, — подхватил Синеоков весело: — Плюгав вышел у ней Павел, — это на царском-то столе!
— А что царского в Николае? — неожиданно спросил Дейнека, всех обведя тусклым взглядом. — Не Сампсон и не царь… Мозгляк забубенный… И говорят, пьяница…
— Э-э, господа! — недовольно поморщился Иван Васильич. — Прасковья Павловна, — вам это ближе, — предложите Андрею Сергеичу пирожного!
— Чтобы рот заткнуть! — подхватил Иртышов.
— Отец богатырь был, а сынишка вышел мозгляк, — почему? — продолжал, возбуждаясь, Дейнека. — Ему бы шахтером быть, — пропивал бы субботнюю получку… пока кто-нибудь кишок бы не выпустил… Самому-то ему уж куда!..
— Я не могу этого допустить! — строго сказал Иван Васильич, но Дейнека продолжал, окрепнув в голосе:
— Шахту «Софья» кто взорвал? Рабочий Иван Сидорюк… Такой же мозгляк… с такой же чалой бородкой… В волосах кудлатых пронес в шахту спички-серники и папироску!.. Кто оказался виноват в этом?.. Я, инженер Дейнека. Почему я виноват?.. А потому, что не поверил мне Сидорюк Иван, что спичкой может взорвать он шахту… Я виноват, хорошо… пусть!.. Но я не женат, у меня нет сына… Иртышов был женат, имеет сына тринадцати лет… Он говорил вчера: хулигана и вора!.. Почему? — Сын ему не поверил… Кто виноват?.. Иртышов!
— Вот!.. Так!.. Вот!.. — одобрительно вмешался Иван Васильич. — Спорьте!.. Доказывайте… Выходите из апатии… Вам это очень полезно!.. Хотите, я вас в комнату Иртышова помещу, а господина Синеокова, батюшка, к вам?.. Да, так мы и сделаем… Прасковья Павловна, переместите их завтра!
А Иртышов вытянул указательный палец длиннейшей руки в сторону Дейнеки:
— Вот видите, — вам же и оказалось полезно, что сын у меня хулиган и вор!.. Вроде гофмановских капель это вам!.. Кушайте на здоровье!.. А кто из него сделал хулигана и вора? — Общество, его воспитавшее!.. В мое отсутствие… Я в ссылке был!.. Да, именно, — хулиган и вор… и вымогатель!.. Обирал меня, иначе грозил донести… От него я из Москвы уехал.
— Хорошенький сынок!.. За-вид-ный! — фыркнул Синеоков, и вслед за ним захохотала Эмма, и с большим любопытством Ваня пригляделся к рыжему, а тот, заметив это, вскочил свирепо:
— Смешно вам?.. Дико, а не смешно!.. Дико то, что вам это смешно!.. Нет у меня времени заниматься такими мелочами, как какой-то гнусный мальчишка, и не было!.. Но все-таки… все-таки он не такая труха, как вы!..
Дарья брала уже раз подогревать самовар, — теперь вошла за тем же самым снова. Из всех лиц в этой комнате это было самое брезгливое, самое недовольное лицо: тяжелое, раскосое, оплывшее, полное самых мрачных мыслей. Она пила исподтишка на ночь, а Прасковью Павловну ненавидела за то, что ходила она в белом и сидела за столом, как барыня, — и теперь, войдя, отнюдь не заботливо, а очень угрюмо и враждебно кивнула ей на самовар:
— Еще, что ль?