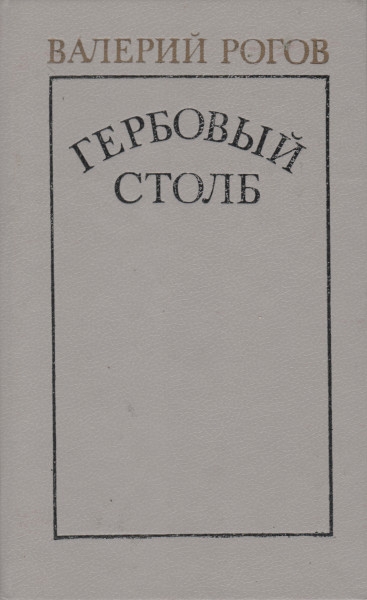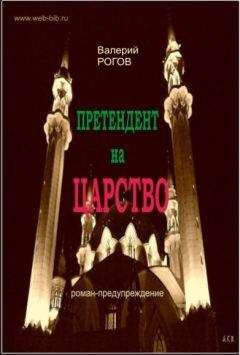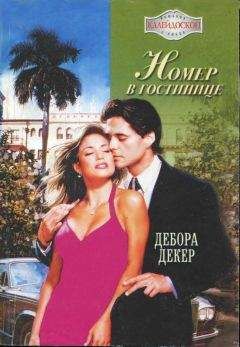ответил. Он думал: «Сначала мы строим схемы жизни и стремимся им следовать. Однако быстро сдаемся жизненному течению, и оно несет нас по своей прихотливости. И мы не верим, что попавшийся в пути островок — наше счастье. И все оттого, что мы думаем, что должен прийти кто-то умный и разобраться в наших делах, наших чувствах. Он скажет, как мы должны жить, как поступать и чего не должны делать. А этот, всеведущий, почему-то не приходит. И в конце концов мы перестаем в него верить и живем как придется, не проявляя ни самостоятельности, ни решительности, ни желания что-либо изменить...»
— Я давно не была на могиле у мамы, — печально сказала она. — Разве так можно? Такие вещи нельзя откладывать, правда?
— Что? — не понял он.
— Я завтра же съезжу к маме, — пообещала она себе.
— Зачем? — спросил он. В раздумье добавил: — Мертвые ничего не подскажут. Решать надо самим.
1968
I
Июльские вечера длятся долго, особенно в жаркие дни, когда истомленное солнце часам к десяти устало скатывается к горизонту и, скрывшись, оставляет после себя багряно-золотое свечение, почти до полуночи медленно, нехотя гаснущее в дымчатой пелене. Красивы закаты! Сколько угодно любуйся! Особенно с последнего шестнадцатого этажа дома-башни — в полсвета небесный обзор!
А вниз и взглядывать не надо. Что там? Допотопные кирпичные строения ткацкой фабрики, малюсенькие, как на музейном макете, да неряшливые склады по пыльному склону к Москве-реке, и сама река в этой части — неказистая, мутная. Правда, на противоположном берегу, как Чикаго, столпился огромными корпусами новый микрорайон, но он в низине, во впадине, а дом-башня на холме, и потому за плоскими крышами еще виден зеленый массив; туда-то, в лесную прохладу, и удаляется в душные вечера багряно-золотое светило. Живи и радуйся на такой высоте, перед такой-то далью!
Однако Алевтина Некрячкина, вернее, Алевтина Федоровна, предфабкома этой самой допотопной ткацкой фабрики, распластанной внизу всеми своими закопченными строениями, даже всеми закоулками, между прочим, знаменитой на всю страну еще с далеких, баррикадных времен девятьсот пятого года, не радовалась ни далям, ни закатам, ни исключительно редкой в Москве небесной перспективе. Нет, не радовалась... Наоборот, застарело и упрямо, второй уже десяток лет, обижалась на бывшее руководство фабрики, которое загнало ее в самое небо, под самое солнце, не учло, что она, Тина Некрячкина, с детства смертельно боится высоты.
В самом деле, кто бы мог представить, что Некрячкина ни разу не постояла на своем балконе, парящем над столицей, так как вздорно боялась — а вдруг он обвалится? Или — вдруг у нее закружится голова и она полетит в бездну? Боялась даже того, что ее сдует упругим ветром. Если же при крайней необходимости ей что-то нужно было выставить на балкон из своей однокомнатной квартирки, то она осторожно, на четвереньках выползала, чтобы за щитками не видеть, не чувствовать высоту, и хотите верьте, хотите нет, но левую ногу привязывала веревкой к батарее. Уж если балкон обвалится, то она все-таки повиснет, все-таки есть шанс спастись. Правда, она боялась, что в таком случае от ужаса произойдет разрыв сердца. Но ведь иного выхода не было?..
Что ж, у всех свои причуды и страхи, а Некрячкина Алевтина Федоровна жила одиноко, отличалась мнительностью и считала себя очень болезненной, а потому ей нравилось исповедоваться врачам и постоянно от чего-нибудь лечиться. Злой и завистливой Некрячкина, наверное, не была, однако существовал человек, которому много лет, с первой молодости, а тому уже более четверти века, Алевтина Федоровна всегда желала зла и втайне, не признаваясь и себе, завидовала. Звали этого человека Дуся Ломова, а точнее, Евдокия Васильевна, знаменитая ткачиха, в которой Алевтину Некрячкину раздражало буквально все: будь ее воля, она бы давно сжила Ломиху, ну, не со света, а уж с фабрики — точно!
Странно все-таки: насколько непримиримы бывают люди друг к другу и насколько долго судьба не разъединяет их, как вот Ломову и Некрячкину. Назвать их отношения враждой не совсем правильно; казалось бы, враждовать им не из-за чего, однако их привязчивая непримиримость была, пожалуй, даже хуже откровенной враждебности. Некрячкина, например, всегда и во всем, особенно в своих бедах, обвиняла Ломову и обязательно пыталась отыскать злой умысел со стороны Царицы...
II
Мало кто помнит, как на фабрике, так и в коммунальном доме, построенном скобой в начале тридцатых на месте дореволюционных бараков, причем этот дом-«скобу» поставили так, чтобы внутренний двор-«сад» выходил на улицу, как бы защищая жилище от фабричного дыма и шума, а угловые выступы приспособили: один для торговли продуктами и промтоварами, другой же — под фабрику-кухню, а в конце шестидесятых, урезав двор-«сад», возвели дом-башню, вроде бы переиначив скобу в прямоугольник, по крайней мере, на земле; так вот, в этом едином фабричном комплексе, где всем все известно, мало кто помнил, отчего статную и сильную старуху Ломову, вечность работающую на фабрике и не желающую покидать свои жутко громыхающие допотопные станки с клеймом «ДИП» (кто несведущ, — «Догнать и перегнать», естественно, Европу с Америкой); так вот, почему Дусю Ломову прозвали Царицей?
Догадок, понятно, существовало много: молодежь считала, что так ее зовут за фанатичную преданность делу. Старые товарки, давно уже вышедшие на пенсию, обычно спорили: одни доказывали, что случилось это еще до войны, когда она стала первой фабричной стахановкой и ее наградили орденом Ленина, а газета, мол, написала — «Царица ткацкого цеха». Другие спорщицы объясняли попроще и, пожалуй, поближе к истине: мол, так ее муж величал — «моя царица! Эти обязательно добавляли: «Ох, и мастер был Никифор-то Ломов! Любой ремонт в два счета сделает. Одним словом, золотые руки...» И вздыхали: «Жаль, в ополчение записался. Ведь никак не отпускали, а так бы жил...» И еще добавляли, подтверждая: «Ну, а звал-то ее так за властность и красоту. Дуська и в девках гордячкой была. Жутко славу любила! О Господи, как он ее только и выносил?..»
Как бы там ни было, но, однажды возникнув, прозвище навсегда прилипло к Евдокии Ломовой — Царица! Правда, к старости ее чаще стали именовать с иронией — царица Дуся. Видно, по аналогии с обычным словосочетанием — бабка Дуся. Но все это, конечно, за глаза, а в лицо никто бы не отчаялся такое заявить — Ломова