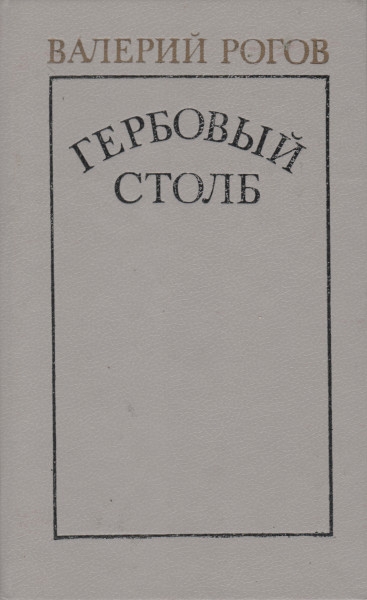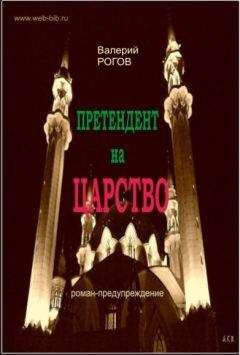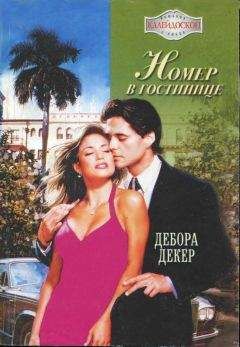за плечи, как котомку. Постоял, оглядывая волжский простор, гладкий, умиротворенный после грозы, и повторил неопределенно, в сомнении: — Как же, ндравится, ндравится. — Без всякой связи продолжал: — В церковь стал ходить. А чего? Теперь можно: кому до меня дело? Пущай контраментирую. — И посмотрел на нас отчужденно, с внимательным сожалением, будто и мы были его неблагодарными детьми. — А помирать пока не хочу. Старуха вон зовет, а я не хочу. Не хочу пока, — сказал он в твердом убеждении. — Интересно мне знать, что же дальше-то будет.
И ушел Иван Сергеевич, ссутулясь, шаркающей походкой, со своим несуразным портфелем, в вольном плаще до пят, в странной широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Конечно, гордится Иван Сергеевич этими вещами, давно подаренными ему сыном Колькой, Николаем Ивановичем. Сильно серчает старик на него, однако же все простит, если тот вспомнит о нем, пригласит в гости или сам навестит.
1978
I
Сразу после воспитательной экзекуции у Федорина он позвонил Вике. Она могла освободиться только к шести часам. Они условились встретиться у метро «Филевский парк».
Громов мог часами бродить по арбатским переулкам, где прошло его детство. Он стоял у желтого особняка с мезонином, украшенного белыми колоннами. В этом особняке он прожил с рождения до пятнадцати лет — с матерью, отцом, а потом еще с сестренкой и бабушкой. У них была огромная овальная комната с громадными венецианскими окнами — бывшая рояльная. Рояль в революцию перенесли в мезонин, где с тех пор жила дочь титулованного владельца особняка — Анастасия Кирилловна Мордвинова.
«А если войти в этот милый сердцу дом, подняться на пол-этажа к роскошным фонарям, пройти по громадному гулкому коридору налево и войти в светлую овальную комнату? Что за люди сейчас живут в ней? Откуда они?..»
На особняке висела железная табличка — «Строение № 2». Сбоку возвышался многоэтажный кирпичный дом. Громов вошел в асфальтированный дворик. На заржавевший тысячу лет назад навес над круглыми ступенями крыльца устало легла старая больная липа. Под липой стояла ветхозаветная скамейка. На ней сидела аккуратненькая, сухонькая, маленькая, как ребенок, Анастасия Кирилловна Мордвинова в немыслимой соломенной шляпке с черной лентой.
Когда-то, очень давно, целую вечность назад, она обучала Андрюшу Громова и его сестренку игре на рояле. На ее фамильном рояле. Он всегда поднимался в мезонин, волнуясь, стыдился, что недостаточно выучил урок, но с такой трепетной радостью, будто открыватель нового мира. В эти короткие минуты он представлял себя то художником Коровиным, то композитором Рахманиновым, а однажды даже адъютантом царя. В мезонин приходили письма из Франции от ее брата и племянниц. На стене висели рисунки Коровина. На этажерке имелась нотная тетрадь с дарственной надписью Рахманинова. А на рояле в застекленной рамке стоял портрет красивого поручика, который недолго был ее мужем. Он погиб в 1918 году, сражаясь, как говорила всем Анастасия Кирилловна, на стороне красных.
Громов круто повернул и пошел со двора. Старушка подслеповато глянула ему в спину.
«Неблагодарность — пена времени. Мы боимся быть сентиментальными. Мы никому не хотим доверять наши мысли и чувства. Скоро мы взорвемся от психической энергии, скопившейся в нас», — зло думал Громов.
Он представил разговор с Анастасией Кирилловной:
«О Андрюша, я очень рада вас видеть! Вы очень возмужали! Рассказывайте: как вы живете? Кем стали? Где работаете?»
«Живу ничего, что значит, не плохо и не хорошо. Никем не стал. Нигде не работаю».
«Я вижу, вы чем-то раздосадованы. Извините естественное любопытство старушки. Но я всегда так благожелательно относилась к вашей семье. Как Леночка? Она была удивительно музыкальной девочкой. Я очень советовала вашей маме, Клавдии Герасимовне, отдать Леночку в музыкальную школу. Что же с ней?»
«Она вышла замуж и родила сына. Теперь будет заочно кончать институт. Кстати говоря, текстильный. Вы удивлены? Не стоит. Наш папа — текстильный работник. Тогда еще он сказал мамаше: «Ну, если ты настаиваешь, пусть брынькает. Но все-таки: что это за профессия? И ответь мне: на какие шиши мы купим пианино? Купи ей лучше скрипку». Потом, уважаемая Анастасия Кирилловна, когда мы переехали в новый дом в отдельную квартиру, ей купили гитару. Она брынькает на ней все без разбору и, действительно, все на слух. Должен заметить: очень прилично. Разрешите откланяться. Меня ждут важные государственные дела. Ариведерчи, графиня. Это в переводе на современный русский язык означает «физкульт-привет!».
Он вышел по улице Рылеева к станции метро «Кропоткинская», постоял у стенда «Известий», не понимая, что он читает, и пошел вверх по Гоголевскому бульвару к Арбатской площади. Вика сказала, что Элка уехала на юг, а ей оставила ключи. «Как ты понимаешь, чтобы я поливала цветы», — с иронией пояснила она.
II
Конфликт начался год назад. Институт, занимающийся конкретными исследованиями по социологии, возглавлял Николай Матвеевич Федорин. Он имел ученое звание доктора наук и всю жизнь занимался философской критикой религии. Но кроме того, в отличие от многих других докторов наук, в нем жила неуемная страсть к власти. Федорин был умен, тверд характером и знал не только то, чего от него хотят, но и чего он хочет сам.
Громов сначала нравился Федорину. Он выделял его, поддерживал. До социологического исследования в Донбассе. Громов там, столкнувшись с новыми проблемами, счел необходимым дополнить вопросник. Федорин не столько возражал против дополнительных вопросов, сколько его самолюбие задело самовольничанье Громова.
— Почему ты не поставил в известность Спокойнова или меня? — бушевал Федорин.
— Вы бы не разрешили, — упрямо отвечал Громов. — А объективность — основа науки.
Рассерженный Николай Матвеевич объявил ему строгий выговор — правильный, конечно, с точки зрения администратора, но недопустимый, естественно, со стороны ученого. «В воспитательных целях всегда следует наказать», — наставительно заметил Федорин профессору Спокойнову. И Аркадий Константинович Спокойнов, научный руководитель Громова, не стал возражать. Но Громов возмутился. Он считал, что вскрыл исключительной важности жизненный пласт. За это не наказывают.
Андрей смирился бы с выговором, если бы дополнительные материалы, собранные его группой, не были бы так пренебрежительно отвергнуты. Он выступил с резкой критикой федоринского администрирования на общем собрании института. Николай Матвеевич был разгневан: «Я поставлю мальчишку на место! Не успел опериться, а уже поучать лезет! Спокойнову он сказал, что ему, Федорину,