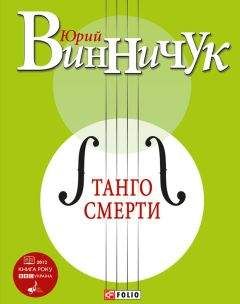Диктуется легко. Перед глазами ничего, кроме микрофона и тех картин восстания, о которых я рассказываю. В это время позади раздаются шумные восклицания.
— Советую вам, пан подполковник, добавить еще одну фразу к вашим сообщениям: на заре советские танки вступили в город со стороны Крушевиц. Население восторженно встречает их цветами. — Оглядываюсь. Это Евгений Евгеньевич стоит, улыбается во весь рот, опираясь на свою палку. Оказывается, розглас только что получил эту радостную весть. Что ж, отличная фраза и очень кстати. Добавляю ее, благодарю фронтовых радистов, принявших это мое сочинение.
— Передайте в Москву, что это первая часть. Продолжение корреспонденции передам в шестнадцать ноль-ноль.
День победы. День чудес. В этот день, как мне кажется, чудесам и надлежит происходить. Капитан Севастьянов беспокоится о самолете. Доктор-повстанец увозит его на своем драндулете в Страгово на Сокольский стадион, где стоит его поврежденная машина, а меня два вооруженных парня сопровождают до Вацлавской площади. Вид ее изменился. По ее огромному прямоугольнику движутся наши танки. Они идут осторожно, как добродушные слоны, пробираясь в огромной толпе. Пропыленные до костей мотопехотинцы застенчиво улыбаются, сидя на бортах. Из толпы летят цветы, пачки сигарет, венки, сплетенные из липовых ветвей. Какая-то предприимчивая девица стоит на броне в национальном костюме в эдакой позе Свободы с картины Делакруа, а руки танкистов бережно поддерживают ее.
И вот тут у какого-то массивного конного памятника, что стоит на высоком пьедестале над площадью, происходит чудесная встреча. Сергей Крушинский! В танкистском шлеме, в гимнастерке, будто бы замшевой от пыли, он, по-минутно отодвигая налезающий ему на глаза шлем, раздает автографы на открытках, которые протягивают ему со всех сторон. Он прибыл с головной колонной Лелюшенко и теперь принимает на себя огонь восторгов и благодарности, адресованных армии освободителей.
— Вы? Тоже здесь? Откуда?
Обнялись, расцеловались. Попытались выбраться из толпы, но это нелегкое дело. Поминутно останавливают, обнимают, целуют. У здания музея дорогу нам решительно преграждает какой-то пожилой гражданин. В руках у него хрустальный графин и рюмка. Он требует, чтобы советские офицеры отведали его настойку. Сам он легионер. Бывал в России в первую мировую войну и помнит русский язык. А настойка у него особенная. Он, оказывается, закопал бутылку с ней в землю семь лет назад, когда Прагу оккупировали немцы. Закопал и дал жене слово не трогать эту бутылку, пока столица не избавится от бошей. Вот пришло время. И он по-сибирски произносит вдруг: «Откушайте-ка». Мы, разумеется, не заставляем себя долго упрашивать, тем более что черносмородиновая настойка эта, семь лет дожидавшаяся в земле, действительно заслуживает внимания. Пьем и слушаем.
— Ать жиэ Руда Армада!.. Прази — наздар!
Наздар так наздар. Правильно. Пьем по второй и по третьей. Прощаемся со старым легионером, благодарим, продвигаемся дальше, и вот тут происходит встреча действительно уже фантастическая.
На углу Вацлавской площади возле какого-то шикарного магазина видим невысокую немолодую женщину с кудрявой головой и на редкость миловидным круглым лицом. В толпе ее выделяет национальный костюм — «крой», как поясняет уже начинающий вживаться в пражскую среду Крушинский. В накрахмаленном кружевном чепце, из-под которого выбиваются веселые кудряшки, в богато вышитой кофте, в короткой наплоенной юбке и в полосатых чулках, женщина эта выглядит милым персонажем из "Проданной невесты", сошедшим со сцены в публику. У нее в руках корзинка, покрытая салфеткой. В корзинке, как оказывается, объемистый сосуд и маленькие стопочки-наперстки. Она тоже решительно заступает нам дорогу и, показывая на корзинку, произносит с милым чешским акцентом по-русски:
— Паны офицеры, пожалуйста, прошу вас немножечко попить сливовичку.
Мы переглядываемся. О сливовице с дней Словацкого восстания у нас остались самые теплые воспоминания. Но местных денег у нас, разумеется, нет. Женщина поняла наше смущение.
— Нет, нет, вы наши, вы мои гости. Я вас хочу немножечко попоить.
Выпиваем за победу, за Прагу и, разумеется, за милую хозяйку, которая, улыбаясь, наполняет наши стопочки. Крушинский вспоминает свой корреспондентский долг и лезет в планшет за блокнотом. С дней Словацкого восстания он еще помнит несколько словацких фраз.
— Пане, как се есть ваше имя?
— Майорова, — говорит собеседница, мило улыбаясь.
— Вы не родственница Марии Майеровой, автора романа "Сирена"?
— Я сама есть Мария Майерова… Вы знаете мой роман?
Тут мы, разумеется, рекомендуемся в свою очередь, и она говорит, что до оккупации читала наши газеты, и «Правду», и "Комсомольскую правду", бывала в Москве, вела дела с нашими издательствами. Встреча коллег-литераторов на Вацлавской площади в такой день! Ведь этого нарочно не придумаешь. Она просит нас заехать к ней отдохнуть, пообедать, она даже готова проститься для этого со своей единственной курицей, которая, по ее словам, является ее другом. Честно говоря, ох как хочется пообедать. С утра во рту крошки не было. Взятый на Дорогу сухой паек лежит в самолете там, на стадионе. Но Крушинский уже пришел в то предельно лихорадочное состояние, которое на него накатывает всякий раз, когда в руках у него интересный материал, и длится до тех пор, пока этот материал он не выложит на бумагу и не отправит в редакцию. Нет уж, пусть курица-друг остается жить и кормит писательницу своими яичками. Дело прежде всего! Мы выпиваем за новые встречи в Праге или в Москве и расстаемся друзьями.
Авангард танков Лелюшенко, как рассказывает Крушинский, от предместья до центра Праги провожал какой-то железнодорожник, которого десантники подсадили на броню. Он рассказывал по дороге, что есть тут тюрьма под названием Панкрац. В ней сатрапы Гейдриха, которого казнили чешские патриоты, расправлялись с антифашистами, подвергая их нечеловеческим пыткам. Ну, в Панкрац так в Панкрац. В провожатых недостатка у нас нет. Через час мы оказываемся на месте. У тюрьмы тоже только что закончилась схватка с эсэсовцами, засевшими в ее громоздком здании.
Возле ворот несколько наших танков. Их командир — молоденький капитан с желтыми усиками, с рукой, висящей на грязном бинте. Он просто вырывает наши документы и подозрительно поглядывает на нас. Впрочем, не мудрено. Нам уже многие говорили, что в Праге рассеялась какая-то власовская часть, одетая в нашу форму. Безобразничают. Чинят провокации. Убедившись, что мы это мы, капитан добреет и ведет нас в тюрьму.
— Там конвейер смерти. Мы его, можно сказать, на ходу, тепленьким захватили, — поясняет он, открывая ногой массивную дверь, обитую войлоком.
Большая комната. Помост. На помосте черный тяжелый стол и три таких же массивных стула, и на среднем из них орел со свастикой. За этим столом эсэсовцы, играя роль судей, скороговоркой оглашали смертные приговоры. Должно быть, конвейер действительно еще вчера работал. Бежав, судьи бросили свои черные мундиры, а заодно и сутану пастора. Ага, а вот эта длинная хламида, должно быть, служила какому-то судейскому чину.
— Тут приговор, а там мясорубка, — поясняет капитан тоном экскурсовода.
В другом конце комнаты большой, отгороженный черным сукном помост. К потолку приделаны рельсики, с рельс вниз свисают лоснящиеся смазкой петли. Они на колесиках, которые движутся по рельсикам, словом, тут на глазах судей вешали, а потом откатывали повешенного за занавес, чтобы освободить место для другого, третьего, пятого. Всего десять петель находилось в работе. За сукнами стояли и гробы на колесиках и с ручками. Большинство гробов пусты, но в двух оказались трупы повешенных — мужчина и женщина, вернее, девушка. Капитан хмуро говорит сквозь зубы:
— Не успели спрятать, сволочи.
У капитана в распоряжении машина-вездеход, из тех, что в армии зовут «козлами». Он приказывает шоферу отвезти нас в розглас, ведь задание еще не выполнено, Конец корреспонденции еще за мной, а Крушинский вовсе еще не начинал свою обойму. Трупы у розгласа уже убраны, кровь с асфальта смыли. Знакомлю Крушинского с Евгением Евгеньевичем Чириковым и, пока они разговаривают о книгах его отца, спорят о его последнем романе "Зверь из бездны", который Крушинский подобрал где-то в Берлине, я кричу в микрофон заключительную часть корреспонденции.
Что именно кричу, плохо помню. От смеси всего виденного, пережитого и выпитого в голове полная каша. Но диктуется необыкновенно легко и остается ощущение большой, бестолковой радости. Крушинский, по обыкновению своему, диктует неторопливо, обстоятельно, выговаривая все точки я запятые, и я сквозь дрему слушаю его округлые, законченные импровизации.
В заключение мы оба, адресуясь в эфир, умоляем фронтовых связистов, среди которых у нас много друзей, пошефствовать над нашими корреспонденциями, переложить их на телеграфный язык и отправить в Москву. А связистов Генерального штаба предупредить наши редакции о получении этих корреспонденции…