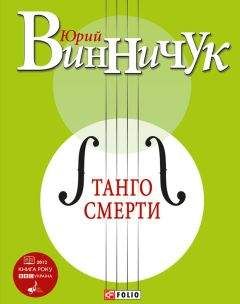Что именно кричу, плохо помню. От смеси всего виденного, пережитого и выпитого в голове полная каша. Но диктуется необыкновенно легко и остается ощущение большой, бестолковой радости. Крушинский, по обыкновению своему, диктует неторопливо, обстоятельно, выговаривая все точки я запятые, и я сквозь дрему слушаю его округлые, законченные импровизации.
В заключение мы оба, адресуясь в эфир, умоляем фронтовых связистов, среди которых у нас много друзей, пошефствовать над нашими корреспонденциями, переложить их на телеграфный язык и отправить в Москву. А связистов Генерального штаба предупредить наши редакции о получении этих корреспонденции…
Смутно, совсем смутно помню, как прощаемся с чешскими радистами, как по-российски целуемся с Евгением Евгеньевичем, и совсем не помню, как шофер, веснушчатый солдат, довозит нас до стадиона и бережно вводит в бар «Чемпион». Капитан Севастьянов спит богатырским сном. Хозяин бара, по-видимому, в прошлом боксер, массивный человек с плоским носом и сплющенными ушами, торжественно ставит перед нами блюдо горячих сосисок, тарелку с горчицей и пиво в больших тяжелых кружках. По-видимому, он двинул в бой все свои пищевые резервы, но деньги тоже наотрез отказывается брать — вы мои самые дорогие гости. И когда Крушинский, человек, просто-таки не терпящий одолжений, начал было настаивать, бармен всерьез обиделся. А потом вдруг попросил что-нибудь написать на память на мраморной доске стола, ну хотя бы засвидетельствовать, что самые первые военные русские гости были именно у него в баре.
— Напишите и поставьте дату. И день и час. На этом стадионе выступают лучшие спортсмены мира. Но самолет на нем никогда еще не приземлялся. Это ведь тоже рекорд.
На мраморном столике было уже изображено чернильным карандашом: "Подтверждаю, что я приземлился за этим столом 9 мая 1945 года, в 7 часов 15 минут". И размашисто подпись: капитан А. Севастьянов. Думаю, что бы такое написать этим славным, гостеприимным ребятам, которые так тепло, так по-братски нас встретили. Но мысли разбегаются, как тараканы на свету. И не нашел я ничего лучше, как написать: "Сие подтверждаю. Подполковник Полевой". А потом голова как-то сама опустилась на стол, глаза закрылись, но сквозь дрему я опять слышу, как неутомимый Крушинский беседует с посетителями бара, уточняя детали любопытнейшей здешней легенды, утверждающей, что настоящая свобода придет в Чехию, когда русский казак напоит своего коня во Влтаве.
Вернувшись из Праги уже на машине, мы с Крушинским тотчас же ринулись на телеграф. Были приняты наши корреспонденции, брошенные в эфир на произвол судьбы? Записали ли их на пленку? Ретранслировали ли в Москву? Да, были приняты. Да, их записали. Да, передали в Москву.
— Сегодня утром Москва читала из них отрывки в "Последних известиях", сказал нам дежурный связи и, должно быть, увидев, как сразу от волнения раздулись наши ноздри, подтвердил: — Сам собственными ушами слышал. Дел у меня сегодня мало, не хотите ли глотнуть за победу?
На стене висела на ремешке трофейная фляга, и как мы догадались по окружавшему дежурного связи аромату, фляга с коньяком. Но мы от этого доброго предложения отказались. В руках у нас были катушки телеграфных лент с записями переданных корреспонденции, и, признаюсь, я разматывал свою не без волнения. Что я там накричал в микрофон в этом пражском розгласе? Живут на свете журналисты, обладающие счастливым умением диктовать свои сочинения стенографисткам или машинисткам. У меня такого дара нет. Всегда пишу от руки. А тут пришлось кричать в микрофон без текста, даже без плана, да еще после обильных угощений. Но по мере того как катушка разматывалась, я с удивлением убеждался, что брошенная в эфир корреспонденция вовсе не плоха, даже точки и запятые оказались на месте, что, признаюсь, не всегда бывает и в моем рукописном тексте.
Мы насладились чтением своих последних военных корреспонденции и возмечтали добраться поскорее домой и завалиться спать. Но… Сколько этих «но» бывает в жизни репортера! Впрочем, может быть, в этих «но» и прелесть нелегкой и беспокойной работы истинного журналиста. На столе дежурного связи брызнул нетерпеливый телефонный звонок. Капитан поднял трубку.
— Да, они оба здесь, товарищ полковник. И Полевой и Крушинский, — и протянул трубку нам.
Я услышал голос адъютанта командующего полковника Александра Саломахина, и в комнату, где жужжали и потрескивали телеграфные аппараты «бодо», воспетые Константином Симоновым в корреспондентской песенке, вошла еще одна новость, при которой забылись мечты об отдыхе, — отыскалась богатейшая ювелирная коллекция саксонских королей. Найдена в подвалах старинного замка, возвышающегося над Эльбой, причем найдена при самых романтических обстоятельствах.
Саломахин сообщил, что через полчаса командующий выезжает в этот замок, именующийся Кенигштейн, что в переводе на русский означает королевский камень, и, если мой «бьюик» в порядке, можно будет к нему присоединиться. В порядке ли «бьюик»? Этот вопрос прозвучал просто кощунственно. Петрович, по выражению Шабанова, ухаживает за своей новой машиной, как старый вдовец за молоденькой невестой.
С узла связи до нашего пристанища мы бежали резвой рысцой и в назначенное время уже топтались у штаб-квартиры командующего, на этот раз помещавшейся в домике управляющего поместьем.
Должно быть, отдохнув и отоспавшись после последних, невероятно напряженных дней и ночей, маршал выглядел так, будто бы только что вернулся с курорта. За годы войны мне довелось видеть его в разную пору: и в дни напряженных боев, и в дни бурных наступлений. Он всегда удивлял офицеров штаба редким спокойствием, которое, вероятно, было лишь выражением сильной, целеустремленной воли. Чем острее была ситуация, как, например, в часы сражения на Корсунь-Шевченковском, тем он казался спокойнее, и это его, вероятно, лишь внешнее, спокойствие организующе действовало на окружающих.
Теперь кончилась война, и с особым интересом смотрели мы на маршала. Каким же он окажется сейчас, в дни мира?
Работы у него, конечно, не убавилось. Первый Украинский фронт в финале войны представляет собой гигантское военное объединение — больше миллиона солдат, десяти тысяч орудий, танков, самолетов. Все это надо было переводить на мирное положение. Тут можно и растеряться. Нет, и в дни мира он все тот же суроватый, уверенный в себе, только в голубых его глазах, всегда сосредоточенных, как бы замкнутых, появился эдакий добродушный юморок.
— Ну что ж, Прагу освободили и теперь вон чем занимаемся. Клады отыскиваем. Кладоискателем стал… Читал ваши опусы… Действия ваши одобряю. А интересная была операция, правда? В некотором роде уникальная. Это марш-маневр через чешские Рудные горы, а? Рыбалко и Лелюшенко, Жадов и Пухов под занавес великолепно себя показали. Вот там, на Западе, пишут, Гудериан, Патон. А ведь таких марш-маневров, какие совершили через горы Рыбалко и Лелюшенко, ни немцам, ни американцам совершать не приходилось. Не будет преувеличением сказать, что наши танкисты спасли этот чудный город от разрушения.
Маршал предложил место в своей машине. И сразу, взяв скорость, кавалькада двинулась по направлению к Дрездену.
Весна в самом расцвете. Восточная часть города, где был когда-то штаб Родимцева, район вилл, богатых особняков, замков, он весь остался нетронутым. Когда машины, миновав уже наведенные и образцово действующие переправы, ворвались в южную часть города, мы как бы сразу оказались в местности, пережившей жесточайшее землетрясение. Весь центр разрушен и превращен в черные руины. Грудами камня, кирпича, бесформенными, безобразными лежали, громоздясь друг возле друга, замки, дворцы, музеи, картинные галереи. Все, чем мы когда-то любовались, листая альбом с фотографиями в штабе корпуса Родимцева, все, за что великолепный город этот именовался Северной Флоренцией, все это разрушено.
И сразу как бы померк великолепный весенний день, из царства буйной жизни мы попали в царство смерти. Проезды между зданиями еще не были расчищены. Машины вынуждены сбавить ход. Страшный смрад сразу окутал нас. Знакомый смрад тления, смерти.
— Здесь под руинами в подвалах, говорят ребята, тысяч полтораста, а то и двести немцев похоронено, — сказал шофер Губатенко, молчаливый донской казак, провозивший маршала всю войну.
— Это верно. Дрезден считался открытым городом, — подтверждает офицер из трофейного управления, человек, хорошо знающий Германию, немцев, которому принадлежит честь находки ювелирных сокровищ Кенигштейна. — Именно открытый город, поэтому сюда со всей Германии и стягивались, спасаясь от бомбежек, женщины, дети. Их размещали в общественных зданиях, подвалах, бомбоубежищах, И вот всю эту массу людей союзники похоронили под развалинами за две ночи. Что только тут творилось! По приблизительным подсчетам бургомистрата, под развалинами похоронено двести тысяч человек.