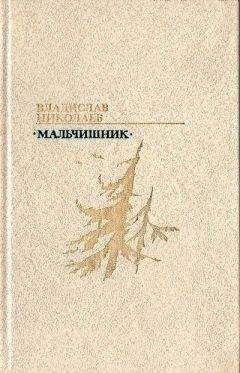Помогать Александру Николаевичу я не вызвался, но после уроков каждый день оставался поглядеть, как они работают, художники и его подмастерья.
В коридоре второго этажа со стремянок они смыли в простенках между широкими окнами известку, втерли в обнажившуюся штукатурку какую-то сырую смесь, а когда штукатурка высохла, Александр Николаевич, заглядывая в цветную, величиной с ладонь, открытку, набросал углем на одном простенке трех богатырей — Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню, на другом — скорбно склонившуюся над озером-омутом, горюющую по братцу Иванушке сестрицу Аленушку, на третьем — еще одну сестричку и одного братца, убегающих по мостику через ручей от страшной грозы, гнущей и ломающей позади огромные, под самую тучу, деревья; братцу не очень-то боязно, ибо он надежно устроился на закорках сестрички, а вот она перепугана насмерть — и за себя и за младшенького.
Потом вся бригада, вооружившись подносиками-палитрами с выдавленными на них красками и свеженькими обмытыми кистями, расположилась на стремянках против трех богатырей, и Александр Николаевич стал показывать, куда и какие краски наносить и в каком направлении растягивать мазками. Максимычу он скоро перестал давать советы и лишь поглядывал на него с нескрываемым удивлением. На следующий день перед началом работы он подозвал мальчика к себе и, склонившись к его лицу, заглядывая в глаза, произнес отечески ласковым голосом:
— Дай-ка я посмотрю в твои глазенки… Вишь, какие горяченькие. Понимают краски. Передвинь-ка свою стремянку к сестричке с братцем на закорках и попробуй расписать их самостоятельно, ежели что не так, я подправлю.
Ободренный доверием, перестав замечать все вокруг себя, кроме возникающей из небытия на стене картины, Максимыч целый месяц не слезал со стремянки. Я на это время потерял друга, а Александр Николаевич, помнится, ничего даже не подправил на его простенке.
По завершении всей работы в школе действительно стало и светлее, и теплее, и просторнее, будто опали стены и загремели на нас летние грозы, запахло омутами, травой, листвой и внятно заговорили с нами живыми голосами все они — из дальнепрожитой, но бесконечно родной и понятной жизни, заговорили «о подвигах, о доблестях, о славе», о любви, страданиях и никогда не оставлявших надеждах.
Надо досказать об Александре Николаевиче. В последний раз Максимыч видел его лет десять назад, был еще живой.
Перед ним стоял немощный старик, неухоженный, наброшенный, в ином, не военной поры, но таком же обглоданном молью зимнем пальто, напоминавшем балахон, хотя встреча произошла в жаркий летний день, и разительно походил он на старика с кружкой, написанного в давние горы им самим, молодым и крепким, только вместо кружки держал в руке кривой батожок; его светлоясные глаза сквозь толстые стекла очков смотрели на Максимыча и на весь мир с любовью и нежностью, благословляя на счастливую жизнь и вечную молодость.
— Геннадий? Как же, помню, помню. Помогал мне расписывать стены в школе, а в другой раз еще замечательно пилил со своим другом дрова. Хорошие были мальчики. Вы никогда не забывайте, что были хорошими мальчиками…
Наконец-то я нащупал, осознал и определил природную особинку Максимыча, изюминку его простой натуры, выделявшую его в кругу друзей, рабочих и нерабочих, — врожденная артистичность. Именно она, артистичность, влечет его к песне и лыжам, ведет в горы и тайгу, притягивает к хорошей книге и стихотворению.
Разговорившись о бессребренике Александре Николаевиче, он впервые признался, что, уйдя в середине учебного года из восьмого класса, собирался поступить в художественно-промышленное училище, да отговорили родные и близкие: ненадежны, мол, перспективы, на хлеб с квасом не заробить.
Но неудовлетворенность Максимыча редко гложет, потому что не заглушил в себе артистические потребности.
Когда по возвращении из Сибири некоторое время я жил в родном городе, он перечитал из моей библиотеки всех поэтов: Блока, Есенина, Багрицкого, Пастернака. Полюбившиеся стихотворения заучивал наизусть, а потом с заразительным запалом декламировал их красивым девушкам:
Зачем кафтаны новые надели
И шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе
Смеялась я, как не смеяться вам.
Входил он в эти низкие хоромы,
Сам из татар, гулявших на Руси,
И я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси!»
«А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне?»
Смеялась я: богат он или беден,
Румян иль бледен — не припомнить мне.
Никто не покарает, не измерит
Вины его. Не вышло ни черта!
Но все же он, гуляка и изменник,
Не вам чета. О нет, не вам чета!
Не этими ли стихами приворожил смуглолицую молоденькую инженершу, только что приехавшую по распределению в наш город после окончания горного института? Взяв за белы руки, он княгиней ввел ее в «низкие хоромы», бревенчатую избушку с банной величины окошками, упиравшимися летом в землю, зимой — в снежные заносы.
Через несколько месяцев и мне стукнет полета. Словно взобрались мы с Максимычем на вершину некой горы, с которой далеко и широко видно, что осталось позади, а также открылись новые просторы и дали, кои надо еще осилить. Позади узнаются дебри и чащи, где я сбивался с пути, блуждал и, обессиленный, на карачках выбирался на дорогу.
Вспоминается, как я последний раз повстречался с давним другом и наставником, красноярским писателем Николаем Устиновичем, с которым четверть века назад простился навсегда. Поверженный необоримой болезнью, он умирал в своей квартире. При моем появлении выпростался из-под одеяла и встал в пижаме во весь рост — живой скелет, обтянутый сухой, пергаментной кожей. На стуле перед кроватью в толстых пачках лежала верстка двухтомника, выпускаемого к его пятидесятилетию, верхние страницы замусорены карандашными исправлениями. Это был мужественный человек — обожженный тридцать седьмым годом.
Стоя, как солдат, прямо и строго, он произнес:
— Ни крупицы прошлого не стыжусь. Ни о чем не жалею. Ничего не жаль, кроме понапрасну потерянного времени. Терял его в застольях. Прощай. Не поминай лихом.
Спустя два дня его не стало.
Не внял я завету друга-наставника. В неизведанных дебрях и чащах много порастерял времени, сбиваясь с тропы, блуждая, падая и выползая вновь.
Впереди сквозь солнечную дымку просматривается оставшийся путь; увы, в данном случае приближение цели не радует, а до нее теперь не так уж и далеко. Как-то пройдем мы с Максимычем новые версты?
5
В последний раз мы плывем на перекладных — моторных лодках-казанках, нанятых в хантыйском поселке Усть-Войкар, чтобы пройти через Войкарский сор — обширнейшее поймище, затопленное водой верст на двадцать вглубь и верст на пять вширь, с гнилыми топкими берегами.
В путь отправились ночью, когда стих ветер и улеглись в сору волны, гулявшие и пенившиеся днем, как на море.
Когда обжег уши встречный воздух, полетели в лицо холодные брызги, меня охватило сладкое чувство свободы и новизны, словно впервые я встретился с земными просторами.
Уже миновали те дни, про какие на Севере говорят: в одном кармане смеркается, в другом заря занимается. В положенную пору царствовала ночь. В куполообразном небе, как в бальном зале, танцевали, кружились голубые, зеленые и алмазные звезды, полузабытые под урезанно-узким городским небом, не звезды — юные и прекрасные девы.
Над далеким и приподнятым горами ломаным окоемом разлилась разноцветными полосами немыслимая заря. Оранжевые, алые, розовые, багряные, опаловые и жемчужные пряди шевелились, переплетались, снова вытягивались, как в распущенных женских волосах, и в левом углу окоема я разглядел ту, которой принадлежали эти волосы, — высвеченный зарей, сотворенный сгрудившимися облаками строгий нежный лик.
Лодку ведет хант Николай. Если бы сам не назвался хантом, его уверенно можно было бы принять за русского парня, переходящего в мужской возраст: на голове лохматая папаха русокудрых нечесаных волос, глаза — светлые и озорные, говорит чисто и бойко, за словом в карман не лезет. Одет он в рыбацкий бушлат, туго стянутый широким ремнем, с замысловатой медной пряжкой и болтающимся на медной цепочке медвежьим клыком величиною с добрый палец.
Впереди проступили под звездами очертания мыса, глубоко вклинившегося в водные просторы. Подавшись в мою сторону, перекрывая рев мотора, Николай прокричал:
— Лиственничный мыс. Сплошь одна лиственница на нем растет, потому так и зовется. Сейчас мы подвернем к нему, и я тебе кое-что покажу.
Разминая ноги, по шумящему галечнику мы дошли до леса, углубились в него метров на десять, и перед нами открылось спящее безмолвное озеро удлиненной формы.