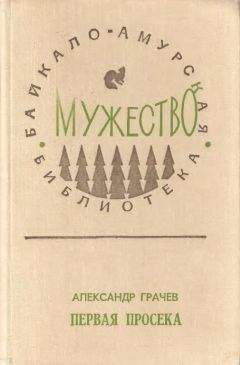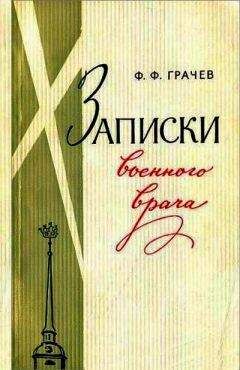Пока он приходил в себя, вокруг собиралась толпа.
— За что они его?
— Двое на одного, вот гады!
Вспыхнула спичка. Захар увидел Ваню Каргополова.
— Жив? — спросил Ваня. — У тебя кровь на лице.
Захар только теперь почувствовал соленое во рту, вытер платком под носом — на платке кровь.
— Что же ты сразу не позвал нас? — спрашивал Каргополов.
— А почем я знал, что они будут драться?
Любаша встретила его в дверях столовой и без стеснения при всех стала вытирать его лицо своим платочком.
— И зачем только я приехала сюда! — со слезами в голосе шептала она. — Это все из-за меня… Что ж теперь делать? Он ведь грозился и меня избить.
— Ничего не бойся, Любаша.
…Собрание открыл Аниканов. Захара выбрали в президиум.
— Подожди меня здесь, — сказал он Любаше. — После собрания провожу тебя.
Любаша не сводила взгляда с Захара. Она смутно понимала, о чем говорит докладчик, занятая мыслями о Захаре. И только тогда настораживалась, когда слышала фамилию «Жернаков».
За последнее время Любаша все чаще размышляла о своей судьбе. Она училась в вечернем строительном техникуме, но ни разу не задумывалась как следует над своим призванием. Сейчас, слушая спокойную глуховатую речь секретаря парткома, посматривая на Захара и его товарищей, она с тревогой думала, что стоит как-то особняком, в сторонке от всего того большого, что делается на стройке, тогда как они, с почерневшими от мороза лицами, в драных полушубках, с загрубелыми в труде руками, делают самое главное, грандиозное дело. Они представлялись ей сейчас настоящими людьми, и Любаше очень хотелось во всем походить на них.
У нее тревожно ворохнулось в груди, когда слово предоставили Жернакову. Она сильно волновалась, наблюдая, как Захар поднимается, оглядывает зал и, запинаясь, говорит:
— Товарищи, мы только что заслушали доклад секретаря парткома. Всем теперь ясно, какие трудности предстоит нам преодолеть до вскрытия Амура. После работы мы обсудили, как быть дальше. И решили: каждому поднять выработку до десяти кубометров в день. Это наш ответ тем классовым врагам, которые хотят задушить стройку в самом зародыше. А еще наш ответ такой: за исключением Бонешкина, у которого цинга, каждый из нас добровольно отдает хлеба по сто, а кто и по двести граммов в пользу больных, а также детей… Я лично отдаю двести граммов в день от своей карточки. Товарищ Каргополов, наш бригадир, тоже двести. Наша бригада вызывает на социалистическое соревнование бригады товарищей Брендина и Самородова.
Захар не успел сесть, как Аниканов крикнул:
— Товарищ Брендин и Самородов, принимаете вызов?
— Я сейчас скажу, — спокойно ответил Брендин, поднимаясь. — Мы в бригаде решили валить не по десять, а по двенадцать кубометров на человека в день!
Громом аплодисментов отозвался зал на слова Брендина.
— Поддерживаем! — крикнул Каргополов.
— И мы тоже! — откликнулся Самородов. — А хлеба все срезаем по двести граммов!
И снова загремели аплодисменты.
Платов встал и громко, взволнованно сказал:
— Товарищи, я предлагаю спеть наш пролетарский гимн «Интернационал»! — И сам первый запел.
Все подхватили. Звукам песни стало тесно в помещении.
У Любаши тревожно и радостно замирало сердце. Она чувствовала себя слитой со всеми воедино; это чувство поднимало ее, будто уносило на могучих крыльях, а перед глазами все время было лицо Захара — немного смешное в своей торжественной строгости.
Собираясь утром в лес, на работу, Захар обратил внимание, что Бонешкин не просыпается.
— Коля, уходим! — сказал он. — Тебе ничего не нужно? Ну, проснись!
Захар тронул Бонешкина за ногу и тотчас же отшатнулся.
— Ребята! — Захар осторожно потянул одеяло. Открылось посиневшее лицо с застекленевшими в смертном покое глазами. — Ребята, умер Николай!..
Все столпились у нар, долго стояли, держа шапки в руках.
— Да-а, жил, бедняга, заполошно, а умер тихо, — первым нарушил молчание Каргополов.
Похоронили Бонешкина на самой вершине сопки и решили, когда закончатся заготовки леса, поставить вместо памятника блок-ролик с надписью:
«Здесь похоронен Николай Петрович Бонешкин, отдавший жизнь за великое пролетарское дело, член славного Ленинского комсомола».
Вроде и незаметным был Бонешкин в жизни бригады, а смерть его все восприняли как утрату самого близкого, родного человека.
Вскоре слег и Каргополов, как ни крепился. Сначала вокруг глаз у него проступили синие цинготные обводы, покраснели белки. Потом и совсем не смог подняться с постели.
— Не могу идти, Захар, — ощупывая колени, сказал Иван. — Отнялись ноги. Бери на себя руководство бригадой.
Вечером, вернувшись с лесосеки, Захар наскоро поужинал и, ничего не сказав Каргополову, направился в поселок.
Лелю Касимову он застал в столовой. Уборщицы мыли пол, а она сидела в своей конторке, подсчитывая талончики продовольственных карточек. Скулы ее пылали — видимо, Леля с кем-то поссорилась.
— Это же черт знает что такое! — рассказывала она Жернакову. — Второй раз уличила Кланьку в воровстве. Тащит и хлеб и сахар. И прячет, пакостная, стыдно даже сказать куда!
— Куда?
— В штаны! — выпалила Леля без стеснения.
— Аниканову не сказала?
— Выгнала ее к черту! А Аниканов что? Рассказала ему после первого случая, так он еще меня обругал. По-моему, он сам пользуется краденым. Знаешь, Зоря, я присмотрелась к нему и прямо ужаснулась — это же страшный человек! Вся его комсомольская активность — ширма, которой он прикрывается, чтобы сделать карьеру. Он такой хитрый, так умеет тонко обделывать дела, что к нему не придерешься. И подумать только, в Новочеркасске я считала его идеальным комсомольцем!
— Я давно это знаю, Леля.
— Знаешь, а мне ничего не говоришь.
— Потому и не сказал, что к нему не придерешься. Ну, вот что, Леля, я к тебе по важному делу. Иван заболел.
— Цингой?..
— Да, слег совсем. Ноги отнялись.
— Ой, Зоря, так что же теперь делать?
— У меня к тебе вопрос. Ты говорила как-то, что ездила к нанайцам покупать рыбу и клюкву. Далеко это стойбище?
— Нет, километров двенадцать отсюда, за сопкой. А ты что хочешь отправиться туда?
— Да, купить клюквы и вообще что можно из витаминных продуктов. Расскажи мне, как туда пройти. Завтра схожу.
В конторку с шумом ввалился Аниканов. Он сухо поздоровался с Захаром, остановился против Лели и, едва сдерживая гнев, спросил:
— Слушай, Касимова, что у вас произошло с Клавдией?
— А то, что заворовалась твоя Клавдия! — резко ответила Леля.
— Не смеешь так говорить! — закричал Аниканов. — Она свои продукты брала домой, те, что получила по карточке. Ты же отлично знаешь, что она не обедала и не ужинала сегодня в столовой. Если не отменишь решения, я поставлю вопрос о тебе на бюро ячейки.
— Вот ты меня на испуг берешь, а я без угроз говорю: завтра утром пойду к Ивану Сергеевичу и попрошу, чтобы собрали бюро ячейки. — Голос Касимовой звенел от сдерживаемого гнева. — Только обсуждать придется не меня, а тебя — за то, что ты взял под защиту воровку. И пригласим свидетелей — повара и обеих уборщиц; они видели, как я поймала твою Клавдию с поличным.
— А это правда? — В лице Аниканова промелькнул испуг.
— Первый случай я, дура, скрыла, пожалела ее, А теперь я так это дело не оставлю, еще и в суд передам, — пригрозила Леля.
Аниканов оторопело глядел то на нее, то на Захара, потом сказал примирительно:
— Слушай, Леля, не передавай в суд, а? Понимаешь, неудобно получится, по моему авторитету ударят… Честное комсомольское, я и не подумал, что она соврала мне. Ну, ты выгнала ее, и пускай отправляется домой с богом. А я с сегодняшнего дня порву с ней, раз она такая, честное комсомольское! Захар, ну скажи ты Леле, чтобы не затевала дела!
Жалок был Аниканов в эту минуту.
Захар отвел от него хмурый взгляд.
— А что я могу посоветовать? Вон Бонешкин умер, слег Каргополов, а тут продукты воруют…
— Каргополов заболел?! — Аниканов прикинулся крайне озабоченным. — Жаль Ивана, на редкость хороший парень. Вот что, завтра же с утра сам отвезу его в больницу.
— В больницу бесполезно, — грустно сказал Захар. — Возили же Бонешкина! Врач сказал, что специального лечения нет, а больные цингой лучше себя чувствуют, когда они находятся среди здоровых.
— Так что же тогда?
— Завтра пойду в Верхнюю Эконь, к нанайцам, попытаюсь купить клюквы или свежей рыбы.
— Я обязательно навещу Ивана, — не унимался Аниканов. — Ну, так как же решим, Леля?
Леля Касимова, добрая душа, растрогалась, видя, как Аниканов заботится об Иване, и, не задумываясь, сказала: