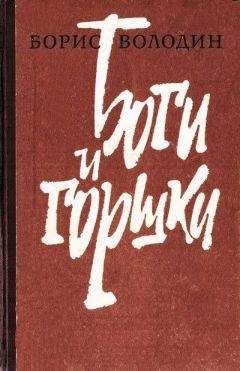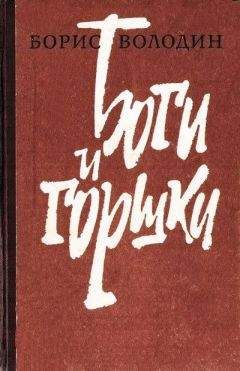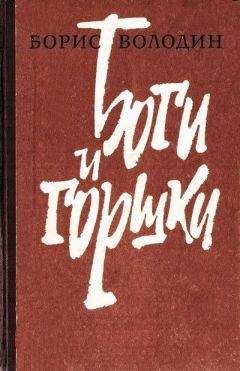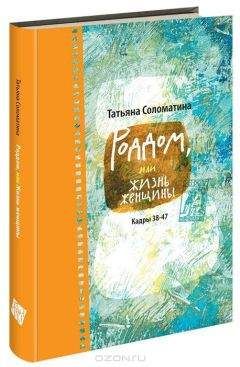После того как он закончил разговор с бухгалтером, внутренний телефон звонил еще несколько раз, но трубку он не снимал, потому что звонки были короткие.
Он сидел в кресле и приходил в себя. В дверь постучала Ася и сказала, что ему по городскому телефону звонит жена. Он снял трубку и спросил:
— Ты где?
— У мамы.
— Долго там будешь?
— А ты скоро поедешь домой?
— Не знаю, — сказал он. — Я могу тебе позвонить.
— Ты, может быть, заедешь за мной?
— Хорошо, — сказал он, — я позвоню и заеду.
Она еще что-то хотела сказать, и он понимал, что она хочет поговорить с ним подольше. С вечера у них был опять тот разговор о детишке — жена была беременна и опять хотела делать аборт. Он понимал, что разговор бесполезный, но не завести его не мог.
Этот разговор дважды прерывался. Первый раз он сам его прервал, потому что наступило одиннадцать часов — время, когда Главный звонил в роддом. В роддоме было пять телефонов — в консультации, в справочной, потом у него в кабинете и у Бороды, потому что Бороде нужно было иметь прямую связь со «Скорой помощью». «Скорая» иногда предупреждала, что вот, мол, к вам везут женщину в тяжелом состоянии, без пульса. Пятый телефон был в смотровой. Если надо поговорить с дежурным врачом, акушерка вызывала врача из родблока вниз. А в доме, где он жил, телефоны не были еще поставлены, дом был совсем новый. Надо было искать двухкопеечные монеты, спускаться к автомату и ждать очереди. Акушерка смотровой сказала ему, что в роддоме вроде бы пока спокойно, только очень большое поступление, а Завережскую или Савичева позвать нельзя — они во втором отделении накладывают щипцы. Он вернулся и попросил жену, потому что сам он устал, а жена лучше его знала английский, перевести вслух статью из «Торакс сарджери» про устойчивую к антибиотикам расу стафилококка, который очень распространился во всех странах. В этой статье не оказалось ничего такого, чего бы Главный не знал уже из других журналов и из своей ежедневной работы, потому что стафилококк отравлял жизнь у него в роддоме тоже, а у Пархоменко просто была катастрофа, из-за которой его сняли и грозились отдать под суд. Но автора этой статьи почему-то очень тянуло на пышные слова, и он предлагал назвать воспаление легких, которое стафилококк вызывал у младенцев, ни много ни мало как «стафилококковой чумой». Дочитав до этого места, жена сказала: мол, вот на что он, Главный, хочет ее обречь, и весь разговор пошел по второму кругу. Но минут через двадцать раздался звонок и в двери показалась черная форменная шинель фельдшера «Скорой помощи» — это за ним прислала машину Завережская.
— Кесарево сечение, говорят, у вас будет, — сказал фельдшер, и Главный кивнул в ответ, хотя совершенно не был в этом уверен. Когда надо было быстро привезти в роддом еще одного врача, диспетчерам центропункта всегда говорили про кесарево сечение — им это было понятней; скажи про что-то другое, они могли бы и не поторопиться с машиной. Оказалось же тогда совсем не кесарево, а высокие щипцы, которые сначала не получились у Савичева, а потом не получились и у Завережской. Такой случай достался — кесарево в сто раз лучше, чем это. От ощущения наползавшей катастрофы оба они просто с ума сошли — иначе бы не додумались накладывать такие высокие щипцы. Кустарщина!..
Когда он осматривал женщину, то сказал про себя, что за такие щипцы надо отрывать руки и ноги. Про такие высокие щипцы в руководствах пишут, что идти на них имеет моральное право только очень опытный акушер. Правда, у Завережской уже внук женится и в акушерстве она почти сорок лет. Но она сама не отважилась бы на это. Наверняка на это ее подбил Савичев. Такие высокие щипцы — почти хулиганство.
— Как вас зовут? — спросил Главный женщину.
— Люба, — сказала она. — Люба Точкина.
И это врезалось.
Она лежала на «рахмановской кровати» — на родовом столе. Она лежала очень спокойно: схваток не было совсем, и еще Савичев очень хорошо сделал анестезию. Она просто почти ничего не чувствовала, когда с ней что-то делали. И никакой опасности не чувствовала.
— У вас муж есть?
— Нет, — сказала Люба.
— И вы очень хотите этого ребенка?
— Нет, — сказала Люба. — Я его совсем не хочу. Если он живой родится, я его не возьму. Некуда. Вы его — в дом младенца.
Она была маленькая и инфантильно сложенная. И глупенькая. И ей было все равно, что делают. И еще она верила в бога — на шее была цепочка с медным крестиком, и аборта она не сделала потому, что не разрешил бог, — сама так сказала, — а в роддом явилась только на пятые сутки родов.
Она лежала вся красная. Губы были запекшимися. Жаром от нее просто несло: тридцать девять и шесть — эндометрит в родах. Все оттого, что явилась на пятые сутки. Эти роды надо было кончать, а кесарево делать было нельзя — при такой инфекции оно кончится перитонитом. Завережская и Савичев взялись за эту Любу сразу, как она поступила, но все было без толку. И время тянуть больше было нельзя, но щипцы в таком случае — сумасшествие.
В роддом она явилась только на пятые сутки потому, что все пять суток схватки были слабые, и вообще она не торопилась. Если бы не температура, она бы еще полежала у себя в кровати в строительном общежитии, где жила. Ребенок ей был совсем не нужен, и она хотела дождаться сначала, чтобы он в ней перестал шевелиться, а только после пойти в роддом. И из-за этой дикости неизвестно было, чем все кончится для нее, — тут уж не до ребенка, тут уж ее одну бы вытянуть.
И, как всегда, здесь оказался целый букет осложнений. У нее был узкий таз, потому-то роды и не продвигались никак, а ребенок был жив и сейчас: просто великолепное сердцебиение.
Вот сколько раз было: приходит женщина, которой ребенок нужен до зарезу, может, всю жизнь мечтала о ребенке или муж так мечтал о ребенке, что готов был даже уйти от очень любимой, только бы иметь сына или дочь. И вот ребенок нужен до зарезу, а его долго нет или рожать нельзя, а женщина отважилась, вопреки всем неудачам и врачебным советам. Приходит. Все движется вроде бы терпимо. И вдруг у ребенка начинает барахлить сердцебиение…
Обычные роды ты не помнишь. Даже многих операций — там, где все хорошо было, — не помнишь. А тех, кому не помог, помнишь — даже если с женщиной в итоге никаких бед, а только ребенка не получила живого, ради которого она пришла и ждала, что ты поможешь.
… А у этого ребенка просто великолепное сердцебиение. Все часы, что слушали его Завережская и Савичев, великолепное. Из-за этого сердцебиения Савичев и подбил Завережскую попытаться наложить щипцы, когда головка еще черт-те где; сам написал на вкладыше к истории родов, что показана перфорация головки, но рука не поднялась, вот и подбил Бабушку на щипцы. Правда, когда почувствовал, что головка ни с места, тут же остановился. И Завережская, которая тоже попыталась, тоже остановилась, и тогда вызвали его, Главного, будто он маг.
— Операционную сестру, набор для перфорации и ведро с водой, — сказал тогда Главный, надел клеенчатый фартук и начал мыть руки. И рано. Потом ждал, пока будет готова сестра.
Потом он сел перед рахмановской кроватью, на которой была Люба Точкина, и ногой поправил ведро так, чтобы оно стояло строго где надо. У кого-то когда-то младенец, которого извлекли после перфорации, сделал все-таки рефлекторный вздох, и послышался вскрик, вот и заведено правило: извлек — и в воду.
Он уже намазал пальцы йодом и посмотрел на Савичева, который с каким-то идиотическим упрямством все слушал стетоскопом сердцебиение нежеланного младенца.
Он посмотрел на Савичева и вдруг сказал:
— А ну-ка, дайте мне.
Он зашел сбоку и, отведя мытые свои руки вверх и в сторону, послушал сердцебиение сквозь широкогорлую деревянную трубку, которую ему услужливо подставил Савичев. Он уже третий раз слышал это сердцебиение: ровное-ровное, четкое-четкое. Наверное, если бы этой Любе ребенок нужен был позарез, все шло бы совсем по-другому, все было бы наоборот — они бы стремились его получить живым, а сердцебиение было бы дрянь дрянью.
— К чертовой матери! — сказал он. — Не поднимается рука. Давайте щипцы.
И оттого, что у него тоже не поднялась рука, все вздохнули — Завережская, Савичев, акушерка и Тома, молоденькая операционная сестра, вызванная из родблока сюда, в маленькую родовую второго отделения.
И он наложил щипцы, — он не раз в своей жизни накладывал такие щипцы и каждый раз говорил, что тем, кто их накладывает, надо отрывать руки и ноги, потому что они очень опасны для матери и для младенца и очень трудны. Он наложил щипцы, снял, наложил по-другому, снял снова, снова наложил, всякий раз четко ощущая, как и что получается. Савичев сказал потом: «Это был пилотаж». Чертовой матери нужен был такой пилотаж, — он так подумал сразу, как только кончил операцию. По ребенку сразу было видно, во что обошлись эти щипцы, — не кричал, пищал тоненько, и глаза расходились в стороны. Нистагм. Симптом черепной травмы.