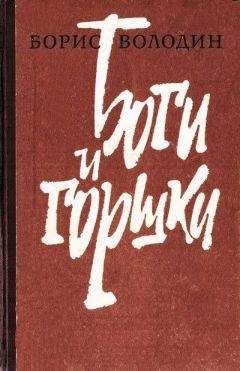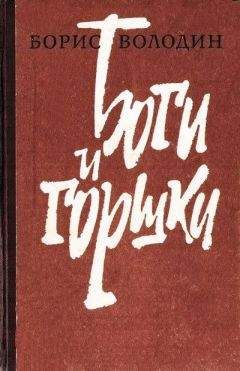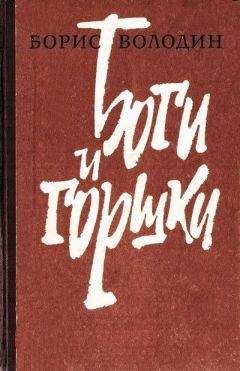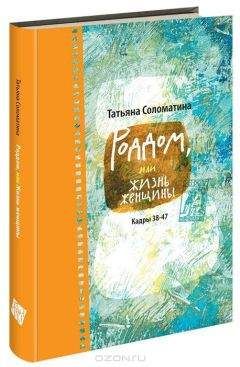Главный в родовой не выматерился. Сказал только: «Руки и ноги надо обламывать за такие щипцы». И утром, на конференции, разбирая случай, он ни слова упрека не сказал ни Савичеву, ни Завережской. Он сказал, что в такой ситуации очень трудно было взвесить все «за» и «против» с достаточной трезвостью. Все происшедшее следует считать тактической ошибкой, хотя ребенок и жив. Савичеву за это не досталось. Ему досталось за другое и совсем немного. Ему обязательно доставалось понемногу при каждом разборе тактики во время его суток, потому что он, в общем-то, принимал верные решения, но если вдруг попадался повод отказаться от операции или пособия, то отказывался. А Главный и Зубова давно уже Савичева готовили в первые дежурные, и потому ему всегда доставалось при разборе. Они добивались, чтоб Савичев стал последовательнее, строже, надежнее. Ему и в этот раз досталось: сначала решил, что необходимо внутриартериальное переливание, и даже обнажил артерию на руке, но остановился: давление у женщины стало подниматься. А порядок такой — если начал, так делай до конца то, что начал… Но только за это досталось, а щипцы Главный взял на себя. Учить других быть последовательным куда легче, чем самому быть всегда таким.
Он после щипцов сам швы накладывал с акушеркой второго. Операционную сестру он отправил в душ, да поскорее. А потом сам все записал в историю. Он писал в ординаторской второго и молчал, а хотелось не молчать, а материться.
Если бы не было Бабушки, он при Савичеве мог бы отвести душу, а тут не мог. И отвел, только когда приехало вызванное такси.
Вышел из подъезда, отвел душу и сел в машину.
Дома он был в три. Жена спала. И встал он раньше ее. Она поднялась, когда он уже вскипятил ведро воды, чтобы разогреть радиатор «Москвича». И она снова заговорила о давешнем, а он сказал ей: «Поступай как знаешь, поступай как знаешь; ты же все знаешь, что я об этом думаю, а говорить я больше не могу». Но когда он спустился к «москвичонку», то подумал, что разговор и для себя-то он тоже на самом деле не кончил. Просто в ту минуту не мог ничего другого сказать жене. Он уже знал, что заведет его сам. А когда сейчас жена говорила ему по телефону о чем-то нейтральном, было понятно, что на самом-то деле это она тянет давешний их разговор и сама она ни в чем не уверена. Но сейчас он об этом не мог говорить, и вообще о таком по телефону не стоит говорить, и он сказал ей:
— Ты прости, у меня тут люди. Я тебе позвоню и заеду за тобой. Идет? — и повесил трубку, не дожидаясь ответа.
Ему стало неприятно, что он сказал: «У меня тут люди». Надо было сказать: «Мне надо в родблок». Он терпеть не мог врать, даже в таком. Просто случайно сорвались не те слова.
Главный понял, что покоя ему здесь не будет. И пошел из кабинета. И когда он вышел и остановился у Асиного стола, сразу зазвонили два телефона — внутренний у него на столе и городской на Асином. Он положил руку на трубку Асиного телефона, чтобы Ася не могла снять ее, пока не услышит от него все, что нужно.
— Я в родблоке. Ни для кого меня не вызывайте. Пусть звонят через час.
— Он в родблоке, — сказала Ася в трубку.
Но он не сразу дошел до места. У лестницы его ждали бухгалтерша и ревизор — в своей неизменной серой кофте свойской вязки. Только сейчас кофта не выглядела как из чистки.
— Вы уж нас простите, Мирон Семенович, — сказала бухгалтерша. — У нее совсем не служебное дело. Она сама все стесняется говорить, так это я за нее. Ее дочка в нашей консультации на учете. Она на пятом месяце. А у них сегодня квартиры на месткоме распределяют. Так нельзя ли справку, что дочка здесь и… это самое?
— Только если это положено, — сказала ревизорша и покраснела. — Только если положено. В консультации не дали. Говорят, рано — вдруг не родит еще.
— Это полагается, — сказал Главный. — Скажите, что я распорядился такую справку дать. Это полагается.
Услышав от Главного, что он скоро поднимется в родблок, Дора Матвеевна подошла к зеркалу, висевшему в ординаторской родблока — как и во всех ординаторских — над умывальником. Она быстро себя осмотрела, сняла миткалевую шапочку, поправила уложенную венком пепельную косу, которая немного отличалась от прочих волос тем, что в ней не проблескивало ни единой сединки, еще поправила завитки на висках и, подобрав под шапочку волосы, закрепила ее шпильками и заколками-невидимками. Одна из заколок, правда, упала в раковину, да так неудачно, что сразу угодила в трубу, но у Доры Матвеевны в кармане халата был нацеплен на картоночке целый их запас, так что никаких последствий это происшествие не имело, все сделалось быстро и «lege artis» — «по законам искусства». Дора Матвеевна осталась собою довольна: ни одного волосяного конца не торчало, а она сама всегда сурово выговаривала санитаркам и даже врачам, если из-под шапочки или косынки выбивались у них лохмы — возможный источник заразы.
Зубову по этой части особенно побаивались. Приходя в ее владения, чтобы получить в автоклавной биксы со стерильным материалом, сестрички и акушерочки из других отделений перед родблоковской дверью не крестились, конечно. Но взамен, как по обряду, они натягивали свои колпаки и косынки аж до бровей и на уши, — лучше быть пять минут уродиной, чем нарываться на краткие и жесткие Доры Матвеевнины выговоры.
И Зубова, естественно, очень следила, чтобы и ее собственная голова выглядела по уставу. Волосы у нее из-под шапочки лишь чуть совсем виднелись спереди и самую малость на висках — даже меньше, чем они видны из-под колпаков врачей-мужчин. И, конечно, не концы торчали, а только слегка выглядывали завитки. И тут важно было еще одно: само правило всегда было ею соблюдено, в общем, безукоризненно, но всякому, кто глаза имеет, должно было стать как день ясно, что под белой казенной шапочкой благодаря природе и искусству находится нечто достойное полного внимания. Таких противоположных эффектов одновременно может добиваться только истая женщина, а Зубова была именно истой и мастерство это освоила уже довольно давно — ей сейчас было сорок. На всю работу плюс еще на припудривание лба, носа, щек, изрядно заблестевших за операцию, которую она недавно кончила, потребовалось минуты три — не больше.
Оглядев себя набело, Зубова решила, что достигла наивозможнейшего. Некоторую сутулость, усиливавшуюся у нее последнее время из-за небольшого, но постоянного радикулита, она убрать, например, не могла и не пыталась даже. Поэтому только одернула и разгладила халат, — проверила, не съехали ли у нее набок швы на чулках. Тем и кончила. А далее подошла к письменному столу, вытащила из-под толстого, уже треснувшего надвое канцелярского стекла расписание врачебных дежурств, зачеркнула в завтрашнем дне фамилию Людмилы, написала поверх нее другую фамилию — «Савичев», посмотрела в листок и тихо свистнула.
Первым — ответственным — дежурным завтра должна была быть Баштанова, отправленная Главным из-за гриппа домой. Не будь операции, Зубова сама бы, если нужно, взялась уговаривать Савичева подменить Людмилу — больше подменить было некому. Очень уж она ратовала за Людмилины дела. Даже не обругала, когда Людмила сунулась в неподходящий момент в операционную сообщить о том, что договорилась. Только сказала, вскинув лицо в белой маске: «Иди! Иди уж! Не забуду. Не до тебя!» Но оказалось, что согласием Савичева проблема завтрашнего дежурства исчерпана не была.
Подумав немного, Зубова вытащила из стола очки и, воровато прислушиваясь, не хлопнет ли дверь, ведущая с лестницы в родблок, стала высматривать в узкой и длинной записной книжке с алфавитом телефоны врачей, прирабатывавших дежурствами в их роддоме. Два телефона записала быстрыми крупными цифрами на линованном обрывке от вкладыша к истории родов и, записав, быстро спрятала очки в стол, а бумажку в карман халата и пошла в коридор.
Дело складывалось совсем не хорошо, потому что врачи, дежурившие первыми, в роддоме были наперечет: сама Зубова, Борода, Завережская, Баштанова, Гайк и Коптева. И все они уже имели по пять дежурств. Зубова дежурила сегодня, Бороде предстояло дежурить послезавтра, а уговорить Гайк или Коптеву выйти лишний раз было почти невозможно. Гайк, например, только на тридцать пятом году ухитрилась выйти замуж, быстро родила деточку — ее дочке исполнился всего год. И к тому же она была просто переполнена семейной жизнью, — да как не быть, если у нее при столь массивном, извините, крупе и таком изобилии веснушек вдруг приключилось нежнейшее личное счастье!.. У Коптевой же все было наизнанку, однако именно поэтому она тоже никогда на уговоры не поддавалась.
И оставалась одна Бабушка Завережская.
Бабушка-то как раз могла согласиться на лишние сутки, хоть она и только отдежурила, и получала больше всех в роддоме — даже больше Главного и Нины Сергеевны с их должностными окладами Главного и зама и надбавками за ученые степени (если не в клинике и не в вузе, то эти надбавки не бог весть какие). Врачебные ставки устроены так, что за стаж — за пять, за десять, за двадцать лет — прибавляется понемногу, а когда проработал тридцать — сразу скачок. И кроме надбавки еще пенсия за выслугу лет. Правда, иным из достигших тридцатилетнего стажа тянуть настоящую акушерскую работу уже трудно, но Бабушка старалась тянуть изо всех сил. Она боялась, что если перестанет тянуть, то сразу обмякнет, как пустой мешок, и тут все. А она все свои тридцать лет работы обязательно дежурила каждую пятницу — так завела когда-то. И, придя в роддом, Бабушка сказала Зубовой, чтобы для простоты дела она начинала бы составление расписания на месяц с пятниц: ставила бы на все пятницы ее. А на той неделе после своей пятницы она еще и воскресенье дежурила. И скажи Зубова ей сейчас: «Возьмите дежурство во вторник», она бы и его взяла, и не потому, что все надбавки и выплаты за выслугу уходили на щегольские костюмчики ее великовозрастных уже внуков, а потому, что, взяв еще одно дежурство, она бы почувствовала: мол, тяну еще, вовсю тяну!..