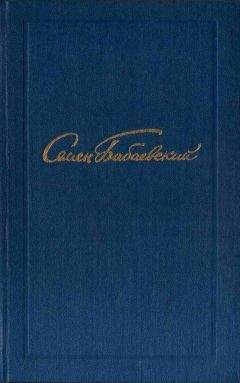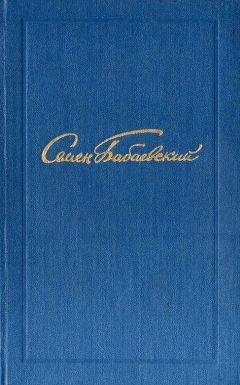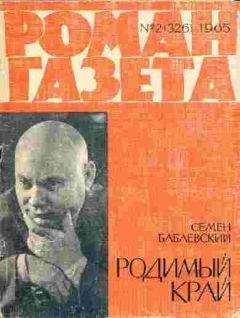Клава не ответила. Она невольно вспомнила Никиту, его связь с Катей на хуторе Подгорном, и к горлу острым комком подступили слезы.
Разговор в палате оборвался надолго.
— Ваня, просила Клава, чтобы ты…
Досказать Валентине помешал Иван. В дверях он подхватил ее на руки, как подхватывают любимого ребенка, и легко, радостно закружился с нею по комнате. Зная его неуемную восторженность и в душе одобряя ее и радуясь ей, она не вырывалась, а лишь болтала ногами и, с любовью глядя на его блестевшие, счастливые глаза, повторяла:
— Ой, медведь! Ну что ты делаешь, Ваня?
— Ношу тебя на руках!
— Слышишь, Клава просила прийти к ней в больницу…
Иван ничего не слышал и ничего не понимал.
— Ваня! Ну нельзя же так!
— Почему нельзя? Не понимаю! Не хочу понимать!
— Слышишь, тебя Клава просила…
— Я давно жду тебя. Почему так долго не приходила? Мне надо ехать сменить Петра, мотоцикл стоит, приготовлен, а тебя все нет и нет.
— Уезжал бы…
— Не повидав тебя? Как же можно, Валя?!
— Ну что ты делаешь, сумасшедший! Ваня, ну не надо… Прошу, Ваня…
Он осторожно опустил ее на кровать. В комнате стало тихо, и после их озорного смеха, молодых веселых голосов эта тишина казалась странной.
…Валентина встала, оправила платье, подошла к зеркалу, отворачивая от Ивана горячее, счастливое лицо. Она ласково сказала:
— Ненасытный…
Она подняла над головой голые до плеч руки и начала не спеша причесываться. Иван стоял перед ней, благодушно-радостный, с восторженной улыбкой смотрел на ее припухшие, только что им целованные губы, на ее большие, всегда ласковые глаза.
— Валя! Неужели обиделась?
— Да, обиделась.
— Ну чего? Не понимаю!
— Пора бы, Ваня, и поубавить свой пыл… Нельзя же…
Желая переменить разговор, Иван спросил:
— Так о чем просила Клава?
— Чтобы пришел к ней в больницу.
— Зачем я ей понадобился?
— Не знаю. Пропуск для тебя заказан.
— Может, она хочет что-то узнать о Никите? Я ни чего о нем не знаю.
— Все одно поди, навести ее. Она такая несчастная.
— Хорошо, заеду в больницу, а потом отправлюсь в степь. А завтра, после смены смотаюсь к Андрюшке.
— Не надо, Ваня, так часто ездить к нему.
— Это почему же? Ты не мать, а бессердечная мачеха! Наша пахота соседствует с предгорненскими полями, так что если поехать напрямик, то минут через десять можно быть в гостях у сына.
— Ваня, тебе уже пора!
— Да, да, еду!
— Будешь у Андрюшки, поцелуй его за меня, — сказала Валентина, провожая Ивана до дверей.
По дороге в больницу, включив фару, Иван мчался по уже завечеревшим переулкам и думал о том, что вот и сегодня опять оставил Валентину одну, и в груди ощутил колючий холодок. Обычно, уезжая в степь на сутки или на двое, он никак не мог избавиться от этого тревожного чувства, и всегда чей-то голос твердил ему: «Не теряй, дружище, голову, люби свою Валентину нормально, без тревог и волнений, так, как любят своих жен все мужья, и жизнь у тебя пойдет спокойно». — «Так, как любят все, я любить не смогу». — «А что же ты запоешь летом, когда начнется уборочная страда? Оседлаешь комбайн, и для поездки к Валентине времени совсем не будет. Что тогда?»
«Что тогда?» Об этом он не думал… Почему-то вспомнил, как Валентина неожиданно, не повидавшись с ним, уехала в Предгорную. За то время, пока она жила у своих родителей, Ивана мучили сомнения, и вот тогда он впервые подумал, что, видно, по глупости, случайно прибился не к своему берегу, что Валентина не для него и что ему, трактористу, нужно было жениться на Нине Горшковой: эта девушка с ее добрыми, стыдливо улыбающимися глазами как раз и была предназначена ему самой судьбой.
Однажды он встретил Нину, и как раз в то время, когда Валентины в Холмогорской не было. Это было перед вечером, Иван на мотоцикле возвращался с пахоты. Нина стояла возле Иванового двора, у калитки, как бы преграждая ему путь, и смотрела на него с виноватой улыбкой.
— Ваня, я тебя ждала.
— Это зачем же? Или хочешь сообщить мне что-нибудь хорошее?
— Хочу… Только не знаю, как… Просьба к тебе, Ваня.
— Какая?
— Пойдем ко мне. Дома я одна. Отец и мать уехали на хутор Извещательный, к родичам. Вернутся только завтра… Пойдем, а? Ну, что так смотришь? Я приглашаю тебя в гости. Давненько мы не бывали вместе… Ну, согласен, Ваня? Я никогда еще не просила тебя так, как прошу сейчас.
Иван смотрел на взволнованное, пристыженное лицо Нины и молчал.
«А что, и пойду! — подумал он, покраснев щеками. — Вот он, сам подвернулся, удобный случай, чтобы доказать Валентине, что я могу обойтись и без нее. Она укатила не спросясь в Предгорную, а я без ее ведома пойду к Нине в гости. Вот мы и квиты! Да и приглашает-то не кто-нибудь, а моя прелестная соседка»…
— Ниночка, золотце мое, как я рад, что вижу тебя.
— Зачем же так — «золотце мое»?
— Что, разве забыла, как я тебя называл?
— Признаться, забыла… Так придешь в гости?
— Приду. Только я голодный, как волк! Накормишь пахаря?
— Ваня, о чем печалишься? Да и как тебе не стыдно об этом спрашивать? Для тебя, Ваня, все у меня есть… Пойдем!
— Иди, а я поставлю мотоцикл и сейчас же явлюсь.
— Я подожду тебя возле калитки.
— Мне же надо сменить хлеборобское одеяние и умыться.
— Умоешься у меня, я согрею воду.
После ужина Нина, не в силах скрыть свою радость, с пылающим лицом несмело обняла Ивана, прижимаясь к его колючему подбородку своей мягкой, горячей щекой. Он не отвел рук, только удивленно посмотрел на ее полные ласки глаза.
— Ваня, оставайся у меня.
— Не могу.
— Ее боишься? Ну, сознайся, боишься?
— Я не из пужливых.
— Значит, останешься? Думаешь, мне легко говорить то, что не я тебе, а ты мне должен был сказать, а я, видишь, говорю и не краснею.
Она встала, отошла и смотрела на него как на чужого.
— Что с тобой случилось, Иван?
— А что?
— Неужели забыл тот вечер на берегу Кубани и плеск воды у наших ног? Ты целовал меня и клялся…
— Помню, очень хорошо помню… Но то было детство, оно ушло, и тот вечер вернуть уже невозможно.
— А если захотеть?
— Не так-то все это просто, Нина.
— Понимаю, это она встала между нами… Ты ее любишь?
— Да, люблю.
— Не будет у тебя с нею счастья!
— Почему?
— Разные вы. Кто ты и кто она? Ну, чего сидишь? Уходи! — вдруг крикнула она. — И не бойся, следом не побегу…
Так ничего у него и не вышло из намерения доказать Валентине, что он может жить и без нее. «Стыдно и обидно, обидно и стыдно, — думал он. — И зачем я пошел, не надо было мне ни встречаться с нею, ни тем более идти к ней»… И он впервые ощутил холодок, прильнувший к груди страх и какое-то обостренное чувство тоски. Ему казалось, что, если бы Валентина была рядом с ним, он успокоился бы. И вот тогда он решил, не раздумывая и не мешкая, привезти ее и сына в Холмогорскую. С Барсуковым и главврачом договорился о ее работе. В свободный от смены день попросил у Петра мотоцикл с люлькой (люлька — удобное место для Андрюшки!) и прикатил в Предгорную, когда сумерки, густея и навалом спускаясь с гор, уже укрыли станицу.
На другой день он привез Валентину в Холмогорскую, правда, одну, без сына (сердобольная бабушка наотрез отказалась отдать внука). Но и после того, как они зарегистрировались и стали жить не в хате стариков Андроновых, а у брата Петра, желанный покой к Ивану так и не пришел.
По длинному, пахнущему лекарством коридору Иван, сопровождаемый санитаркой, шел тем твердым шагом, каким обычно ходят люди, неожиданно попавшие в непривычную для них обстановку.
— Молодой человек, ты подожди, — сказала санитарка. — А я схожу к больной, узнаю, может, она тут с тобой повидается.
Это был небольшой холл. Низкий треугольный столик, два плетенных из лозы кресла. Иван сел в кресло, рядом с ним до потолка поднимался фикус с темными, шириной в две ладони листьями; рос он в пузатой, стянутой обручами кадке. Не успел Иван подумать о своей встрече с Клавой, которую не видел, наверное, лет десять, как к нему приблизилась старая, незнакомая ему женщина в больничном, путавшемся в худых ногах халате.
Он встал и пожал ее маленькую, слабую руку, чувствуя в своей загрубевшей ладони высохшие пальцы; смотрел на ее лицо — нет, не исхудавшее, а какое-то увядшее, обескровленное, с прочно залегшими у губ морщинками; видел потухшие глаза, не узнавал Клаву, удивляясь и мысленно говоря себе: да нет же, не может быть, это не она! И молчал, потому что не знал, что и как сказать, и сознаться ли, что не узнал ее, или не сознаться.
Они присели на жалобно скрипнувшие кресла, и Клава, глядя на толстые листья фикуса и будто бы видя их впервые, с вымученной улыбкой спросила: