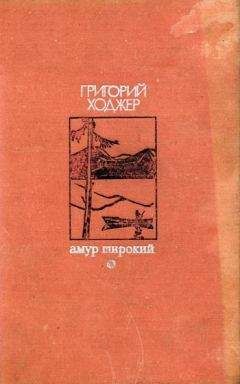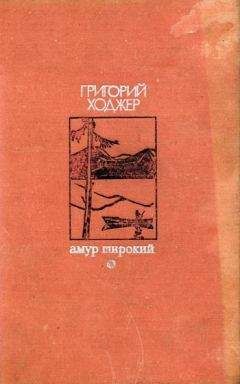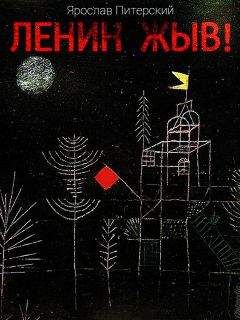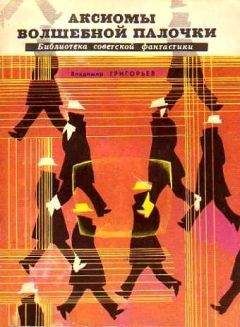— Ама, не горячись. Я тебя нашел, я не хочу потерять, поверь мне. Не говори так резко при посторонних, мало ли что могут они подумать.
«Верно говорит, совсем ум потерял, — подумал старик. — Неужели он и вправду сыном моим хочет стать? Нет, глаза его нечестные, хитрости, злости в них много».
— Ладно, сын, не буду, — сказал Богдано. — Выпьем давай. Чтобы ты познал всю нанайскую мудрость, шаманскую тоже, я тебе все расскажу. Я знаю законы тайги и рек, дома и амбара — все знаю. Сказки знаю, легенды помню. Выпьем, сын.
Дубский выпил, закусил вареной утятиной.
— Где ты нанайский язык выучил? — спросил Богдано.
— Ездил по Амуру, жил среди ваших, вот и выучил.
— Умный ты. Не каждый это может…
Казимир Владимирович не стал больше пить, сослался на работу. От Богдано пошел он к Яоде Заксору, содержателю священного жбана. Яода недоверчиво, с подозрением разглядывал его, а заметив пистолет, совсем перепугался.
— Сколько людей нынче молиться приезжало? — спросил Дубский.
— Не помню, разве упомнишь, — забормотал Яода.
— Я не спешу, вспоминай.
— Раньше много приезжало, нынче меньше десяти было.
Дубский закурил папиросу, предложил Яоде.
— Ладно, я все знаю. Люди тебе платят деньги за то, что молятся жбану. Мало ты заработал. На что живешь?
— Рыбу ловлю, охотой занимаюсь.
— В колхоз не вступаешь?
— Мы здесь, а колхоз там.
Дубский не стал больше расспрашивать трусливого Яоду, записал легенду о появлении жбана, родословную хозяина дома. Потом обошел все соседние фанзы, сделал кое-какие записи и вернулся к Богдано. Шаман и на самом деле рассказал ему много любопытного, едва хватило двух тетрадок, чтоб записать.
— Ама, говорят, ты целый день мог сидеть за столом и не выходил из дома по малой нужде. Когда тебе хотелось, ты подсаживал на колени ребятишек, и они за тебя бегали. Верно это?
— В молодые годы кое-что умел.
— Ама, это так интересно! Если бы мне удалось как-нибудь понять и написать об этом, это было бы, как говорят русские, громом среди ясного дня. А еще рассказывают, ты на рыбалку ездил на соломенных собаках.
— Ездил. Кто же это видел? Я думал, никто не видит.
— Видели, рассказывают. Ты из травы вязал собачек, запрягал их и выезжал. Быстро, говорят, ездил.
— По молодости увлекался.
— Ама, ты должен мне кое-что показать. Ты вспомни, как это делал, позже покажешь. Ладно?
— Если удастся вспомнить, — ответил Богдано, а сам подумал: «Этого ты не увидишь, молодой еще, чтобы меня обхитрить».
«Ну вот, капканы, силки расставлены! Будет богатая добыча! — ликовал Казимир Владимирович. — Узнать бы механику этих уловок, написал бы такую статью! Фурор! Надо только закрепить свои позиции. Что бы такое сделать?»
Утром Казимир Владимирович уезжал.
— Ама, береги себя, я скоро вернусь, — сказал он на прощание. — Береги. Когда сюда приедут молодые люди отбирать бубен, ты скажи им, что я, твой сын, не велел. Иначе головой будут отвечать. Так и скажи.
Раньше, увлеченный учебой, стремлением познать как можно больше, Богдан редко обращал внимание на ленинградскую погоду; заниматься ему приходилсь в аудиториях, в библиотеках, в музеях. Если днем небо заволакивали тучи и в залах библиотеки наступали сумерки, студенты просто включали свет. Редко Богдан грелся на солнце, это случалось только летом, когда северяне выезжали за город на летние каникулы. Но после пасмурной зимы ранней весной он все же вспоминал о солнце. С приездом Гэнгиэ все изменилось в жизни Богдана. Железный распорядок дня, недели был разрушен и уже никогда не восстанавливался. Каждый вечер теперь Богдан прогуливался с Гэнгиэ и стал ощущать, как угнетающе действуют пасмурная погода, дожди и сырость. Но чаще он чувствовал это не сам, а как бы через Гэнгиэ.
— Сколько дней нет солнца, ты считал? — спрашивала Гэнгиэ.
Богдан пытался вспомнить, когда он в последний раз видел дневное светило, и не мог.
— Как надоели дожди…
После занятий Богдан обычно находил Гэнгиэ в комнате отдыха, где она проводила время с новой подругой ульчанкой Полей. Беседа их могла продолжаться час-другой, и Богдан не мог понять, о чем только они могут говорить столько времени, если не о книгах, о науках, о любви. Богдан искоса поглядывал на Полю, считая ее виновницей такого бездельного времяпрепровождения. Столько надо Гэнгиэ выучить, чтобы догнать однокурсников, а они говорят о вышивках, о приготовлении впрок ягод и черт знает еще о какой ерунде.
— Гэнгиэ, ты совсем мало думаешь об учебе, — говорил Богдан, когда они оставались наедине. — Сколько времени у тебя уходит зря. Понимаешь?
— А ты понимаешь, что мы женщины? — обворожительно улыбалась в ответ Гэнгиэ, чуть прищуривая свои косульи красивые глаза; зубы ее сахарные так белели, что Богдану всегда хотелось зажмурить глаза. Он не находил ответа и говорил:
— Болтай, мне-то что? Тебе будет стыдно, если отстанешь. Учти, среди нанай никогда не было отстающих.
— Вот хорошо-то, что сказал. Я одна среди нанай буду отстающая.
— Перестань, Гэнгиэ, зачем так…
Богдан не мог с ней спорить, и это Гэнгиэ поняла с первых дней и использовала как могла. Это было чисто женское кокетство. Гэнгиэ была прилежная курсантка, за полгода она одолела букварь, на втором семестре уже читала довольно прилично, считала без ошибок. Ее преподаватель Саша, или, как теперь его звали, Александр Валентинович Севзвездин, был доволен и часто хвалил ее, ставил в пример. Учиться Гэнгиэ было тяжело, потому что она несла двойную нагрузку. Богдан взялся учить ее русскому языку, и кроме курсовых заданий она выполняла задания Богдана. Обучалась она сразу по двум алфавитам: утвержденный и выпущенный нанайский букварь был латинизирован, а русский язык она изучала по русским буквам.
— Будешь грамотная, а русского языка не будешь знать, какой позор, — твердил Богдан. — Ты должна хорошо знать русский язык. На этом языке написаны тысячи книг, и ты их должна прочитать. На этом языке разговаривал Ленин, написал свои труды. Ты должна познакомиться с ними. А самое главное, русский язык — это язык дружбы, спаянности. Ты понимаешь, что я говорю? Язык этот сближает народы, укрепляет их дружбу. С тобой вместе приехал парень-нивх. Он умеет говорить по-русски и сразу же подружился со многими. А с кем он стал бы дружить, если не знает языка самоедов, вогулов, тунгусов и не говорил бы по-русски? Мне жалко вон того парня-саами, он не говорит по-русски, и его никто не понимает, кроме преподавателя. Он, бедный, ходит среди нас глухим и немым…
Заниматься Богдан с Гэнгиэ уходили в пустые аудитории, чтобы им никто не мешал. Богдан стоял у доски и объяснял значение слов, решал задачи. У доски он чувствовал себя учителем, но стоило ему подойти к Гэнгиэ, сесть рядом, как его охватывала робость, он начинал волноваться и путаться. Гэнгиэ тоже охватывало беспокойство. Говорили они мало, больше сидели молча. О чем говорить, зачем говорить, когда все сказали их сердца? Они любили друг друга, давно любили, встретились теперь, объяснились, но сблизиться так и не могли… Это было странно, это было невыносимо трудно — любить и мучиться! К их сближению было столько преград!..
Уткнувшись в грудь Богдана, плакала Гэнгиэ, а он гладил ее мягкие волосы, накручивал на пальцы и думал, думал до головной боли. «Свободна ли Гэнгиэ? Могут ли они любить друг друга? Не могут: Гида — друг, названый брат, Гэнгиэ — его жена». Думал Богдан и видел перед собой скорбное лицо Токто, доброе, морщинистое — Кэкэчэ. «Что ты делаешь, сын, как тебе не стыдно?» — будто слышал он голос матери. «Грязная эта любовь!» — резал отец.
Богдан гладил волосы любимой и думал.
— Мы никогда не сможем быть вместе, — сказала как-то Гэнгиэ. — Здесь можем, а там нет.
— Да, не сможем. Мы ведь встретимся там с ними…
Богдан любил Гэнгиэ, это видели все его друзья. Они узнали и о ее прошлом, они сочувствовали, но сами не знали, как поступить. Даже Михаил перестал подтрунивать над Богданом и не упоминал о споре с Яковом.
— Перестань, Богдан, мучиться, — сказал он однажды с каким-то ожесточением. — Смотреть противно. Женись — и все! Будь что будет, потом разберемся.
— Тебе хорошо, тебе не смотреть потом в глаза матери и отца…
— Она же сбежала от него, сама сбежала, и не к тебе, а учиться приехала сюда. Вы случайно встретились…
— Ничего себе случайно, она все время знала, что я в Ленинграде.
— Да наплевать на все! Любишь — женись.
Незаметно подошло лето. Студенты стали разъезжаться по своим краям. На Амур уезжал Михаил.
— К моему приезду чтобы поженились, — сказал он на прощание. — А я узнаю, как ваши там поживают.
Студенты-северяне на лето выезжали в Петергоф, где дирекция института арендовала для них школу. Богдан бывал несколько раз в этом изумительном царстве фонтанов. Когда он в первый раз привел Гэнгиэ и показал ей Большой каскад, она ахнула и спросила: