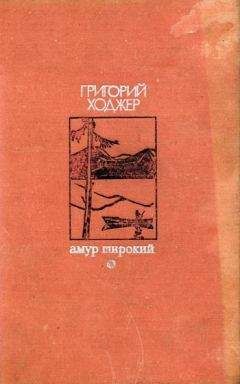ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Снег мокрый, вязкий, лыжи утопали в снежной жиже, снег налипал снизу, но идти надо, подальше уйти от страшного зимника с полуживым Пэсу. Шли гуськом. Прокладывал лыжню Токто, заменяли его Пота, Гокчоа. Братья Годо и Молкочо, потрясенные увиденным, обессиленные плелись сзади. Они то и дело останавливались, оглядывались назад, слезы ручейками сбегали по их тугим обветренным щекам. Тогда останавливался Токто и молча поджидал братьев.
«Ничего, поплачьте, ребята, не стесняйтесь слез, — думал он. — Ваш отец был настоящий человек, храбрый. Какой человек! Слышал нас, но ради нас, переборов мучения, стиснув зубы, молчал. Какой человек! Поплачьте, ребята, легче станет, отец ваш стоит мужских слез!»
Отвернувшись от товарищей, смахивали слезы и Пота с Гокчоа.
— Я бы не вытерпел, я бы кричал, звал людей на помощь, — сказал Гокчоа. — Нет, я бы не смог…
— И я бы, наверно, не вытерпел, — проговорил Пота. «Не каждый человек это выдержит, нужно быть железным», — думал Токто.
Остановились на ночлег только тогда, когда перебрались через три пологие сопки и по-весеннему журчащий ручеек. Разожгли костер, вскипятили чай. Никто не проронил ни слова. Годо отпил глоток и, будто позабыв о нем, уставился на огонь немигающими глазами. В больших влажных глазах полыхало пламя костра.
— Я не забуду его лица, — тихо проворил Годо. — Весь день он перед моими глазами. Страшно. Это был он, наш отец, но лицо не… страшное.
— Я тоже не узнал, — сказал Молкочо. — Оно было все в язвах…
Опять замолчали. Потрескивал костер, ночной ветерок шуршал в кронах деревьев, кричала какая-то ночная птица. Потом со стороны оставленного зимника раздался тоскливый крик другой птицы, он так походил на стон умирающего Пэсу, что все вздрогнули. Пота опасливо огляделся по сторонам. Гокчоа ближе придвинулся к Токто, братья Годо и Молкочо замерли.
— Это не птица… — прошептал Гокчоа.
— Это не птица, — почти одновременно с ним проговорил Годо. — Токто, я не могу вернуться домой, это отец зовет нас, я должен вернуться к нему. Если он жив — останусь с ним, если умер — похороню. Я не могу так оставить его. Токто долго молчал. Молчали Пота, Гокчоа, Молкочо.
— Ты не должен возвращаться в зимник, — наконец сказал Токто. — Ты любишь отца, люби до конца жизни. Помни его. Ты должен подчиниться последнему его слову…
Остывал чай в кружках, в чайнике, который сняли с тагана. Пить никому не хотелось. Пота подложил дров в костер.
— Ты бы вернулся, если бы с твоим отцом случилось? — просил Годо.
— Не знаю, честно говорю, но знаю. Если бы он не говорил…
— Токто, я вернусь к нему, не буду разбирать зимник, подойду, спрошу…
— Может, поселимся рядом… — сказал Молкочо.
— Нет, ребята, нельзя, если любите отца, послушайтесь его последнего слова.
— Поселяться рядом не нужно, — тихо проговорил Годо, — если умер — похороним… а может, он выживет…
Токто ничего не ответил, он закурил трубку и, полулежа на хвое, смотрел на огонь. Все молчали и незаметно Пота с Гокчоа задремали. Годо с Молкочо сосали потухшие трубки. Токто подбрасывал дрова в костер, поддерживал огонь.
— Дедушкино ружье лежало возле отца, — сказал Годо. — любимое ружье деда и отца.
— Мало пороха требовало, — проговорил Молкочо. Токто слушал скупой разговор братьев и гадал — вернутся завтра Годо с Молкочо в зимник или пойдут с ними домой.
— Мертвым остается все, — сказал он задумчиво.
— Не могу я идти домой, — повторил Годо.
— Силы надо беречь, заснем, ребята, немного, — предложил Токто.
К утру охотники подкрепились мясом, рыбьим жиром с лепешкой, выпили чай. Токто не напоминал о ночном разговоре Годо и Молкочо, не стал расспрашивать о их решении, но, к его удивлению, братья молча последовали за ним в стойбище. К полудню, когда охотники остановились на дневку, вдруг закашлял Годо. Он кашлял долго, придерживая горло руками, и жаловался на жар и недомогание. Его знобило.
— Холодно, ребята, в горле першит… — говорил он, продолжая кашлять.
Развели костер, заварили чай. Годо выпил кружку и немного успокоился.
— С чего это вдруг знобить стало? — спрашивал он.
— Ночью не спал, не отдохнул, — ответил Токто.
— Об отце, брате много думаешь, — сказал Пота.
Ночью Годо стало еще хуже, его непрерывно трясло, душил кашель. Утром он попытался встать на лыжи, но не прошел и ста саженей — сел на обледенелый наст.
— Поясница… что-то плохо, — прошептал он.
— Не можешь идти? — растерянно спросил Молкочо.
— Не знаю… отдохну немного…
— У тебя все лицо горит, — сказал Токто.
— Жарко… дышать тяжело…
Молкочо разрыл твердый ледяной наст, достал горсть зернистого темного снега. Годо прижал снег ко лбу, потер лицо.
— Легче… на ногах доберусь…
— Нарты бы, — сказал Пота.
— Ничего… я сейчас…
Годо встал на ноги, уверенно прошел несколько шагов, скатился с невысокой возвышенности и у самого подножия упал как подкошенный и ударился головой о дерево.
Токто первым подкатил к нему, приподнял голову — Годо рассек лоб, и из раны шла кровь.
— Что с ним? Как? — встревоженно одновременно спросили Молкочо и Пота.
Годо поморщился, потрогал лоб ладонью.
— На дерево, что ли, скатился? — спросил он.
— Плохо дело, ты не можешь идти, — сказал Токто.
— Недалеко до дому… долечу…
Пота с Молкочо переглянулись. Гокчоа удивленно уставился на больного.
— Снимите с него лыжи, — попросил Токто.
Годо уложили на хвою, а Токто принялся из лыж больного готовить волокушу. Молодые охотники, напуганные всем происшедшим, растерянно сидели рядом.
— Ага, что такое с Годо? — наконец спросил Пота.
— Не знаю, заболел, видно, — ответил Токто.
— Может, у него с головой что…
— Что может случиться?
— Отец живой там, может, от этого с головой что…
— Не знаю, шаман узнает.
Больного положили на волокушу, и охотники двинулись дальше.
— Ребята! Ребята, мы идем к отцу? Молкочо, ты не слышишь, отец нас зовет. Быстрее, беги быстрее, не отставай! Токто, ты злой человек, ты очень злой человек. Зачем развалил аонгу, зачем погубил отца? Молкочо, Молкочо, отец жив, он зовет нас. Беги быстрее!
Годо бредил. Токто шепнул ребятам, чтобы те не обращали внимания на речь больного и шли как можно скорее. Годо приходил в себя, тихо стонал, кашлял и просил, чтобы разрешили ему идти на лыжах.
Провели еще одну бессонную тревожную ночь в тайге и на следующий день к полудню подходили к стойбищу. Их ждали и заметили сразу, как только они вышли на прямую Харпи, и, увидев лишь четверых идущих, тревожно заговорили:
— Возвращаются. Вместо семерых только четверо… Никто еще не посмел высказать и слова о несчастье, но все сердцем почуяли беду. Охотники, молодые и старые, собрались возле фанзы Пэсу Киле. Внуки Пэсу хотели было пойти встречать возвращавшихся, но старики не пустили их: не надо бежать навстречу несчастью, оно само всегда может посетить тебя и твой дом.
— Пятого на волокушке тащат, — сказал кто-то.
— Что такое, неужели не дошли до аонги? — тревожно спросил Чонгиаки Ходжер.
— Всякое бывает, медведей-шатунов много, — сказал Дарако.
Старушка Кисоакта со снохами стояла тут же, она плохо видела и потому расспрашивала всех — кто идет на своих ногах, а кого тащат на волокуше. Зоркие молодые охотники по походке, одежде узнали шагавших.
— Гокчоа идет, вон он справа хромает.
— Токто в середине, это он, а слева, кажется Годо.
— Нет, это Пота.
— Точно, Пота, рядом с ним Молкочо.
— Годо везут, моего сына Годо везут, — заволновалась Кисоакта. — Отца со старшим братом не разыскали…
Охотники приближались медленно, так медленно, что встречавшим казалось, будто прошло полдня, как они показались на реке. Юноши не выдержали и пошли навстречу возвращавшимся.
— Несчастье, большое несчастье, — сказал Чонгиаки, когда Токто с молодыми охотниками остановился на берегу и встал, опершись на лыжную палку.
Толпа зашевелилась, многие бросились на берег, вместе с ними ковыляла старушка Кисоакта. Она опустилась рядом с Годо, обняла его.
— Мама, чего ты? Я живой, живой, — через силу улыбнулся Годо.
— Вижу, живой, а отец, старший брат где?
Годо закрыл глаза.
— Дада, надо его домой затащить, — сказал Токто.
Вслед за вернувшимися охотниками в фанзу ввалились все встречавшие. Годо раздели, уложили на нары, жена дала ему выпить горячего чая.
Тем временем при гробовой тишине Токто рассказывал о встрече с Пэсу, о заболевании Годо. Зарыдали женщины, запричитала жена старшего сына Пэсу, Кисоакта с растрепанными волосами заплакала перед очагом.