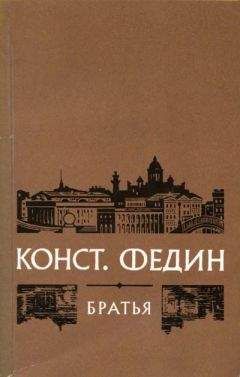— Извольте сказать, о каких встречах намерены вы говорить? Ну, отвечайте же, говорите!
— Я хотел рассказать обо всем, что… Но вы не даете мне раскрыть рта.
— Пожалуйста. Вы хотите рассказать об этой женщине, которая преподнесла вам цветы? Но мне нет до нее дела. Не трудитесь. Я не собираюсь выслушивать все эти истории.
— Ирина!
— Вы, конечно, всю неделю были окружены… разными этими…
— Что же это наконец, Ирина? — горячо перебил Никита.
Она шагнула к нему, теребя свои пальцы, смуглость ее лица как будто исчезла, нетерпеливое ожидание выражал весь ее хрупкий, узенький стан, чуть наклоненный вперед.
— Скажите мне правду, — торопясь, проговорила она, — вы виделись с ней после того?
— Я столкнулся случайно, на улице.
— Так я и знала! — воскликнула она. — И, разумеется, случайно.
Она стремительно отошла в дальний угол комнаты, став к Никите спиной.
Он не мог бы решить, что волновало его в эту минуту больше — изумление или радость. Он хотел кинуться к Ирине, чтобы схватить ее, повернуть к себе лицом, но вдруг до него долетел всхлипывающий, задушенный и слабый голос:
— Зачем вы мне солгали?
— Солгал? — громко вырвалось у него, и он поднял голову, повернул ее вбок, точно прислушиваясь к незнакомому и пугающему звуку.
— Зачем вы сказали мне… тогда, год назад… в саду, что она умерла!
Плечи Ирины подпрыгивали, как у плачущего ребенка — угловато и неровно, локти как будто еще больше заострились.
— Я сказал вам чистую правду! — воскликнул Никита. — Анна действительно умерла!
— Значит, это — другая?! — быстро спросила Ирина.
Обернувшись, она опять взглянула на Никиту в упор. Испуг и обида неузнаваемо изменили ее лицо, и слезы, как очки — от солнца, стеклянно поблескивали на глазах.
— Другая? — повторила она шепотом.
— Разумеется, другая! — нарочно грубо выговорил Никита. — Но выслушайте наконец, Ирина. Ведь все это страшно просто. И глупо. Вы сами будете смеяться, когда узнаете.
Он подошел к ней ближе, протянув руки, но словно боясь испугать ее своим прикосновением.
— Это — моя давняя, совсем давняя знакомая. Я встречался с ней раз в три-четыре года. Матвей должен знать ее, по крайней мере — должен был слышать ее фамилию. Это не важно. Словом, в детстве, почти в детстве, я действительно… Она мне тогда понравилась, понимаете? А потом… Она мне совсем чужой человек. И даже… Хотя нас, конечно, связывает, что тогда, в юности, мы так встретились. Она меня тогда очень поразила. Да и сейчас поражает… Но не в том смысле, нет! Даже как-то отталкивает. Ее преследования…
— Она преследует вас?
— Я, может быть, не так говорю. У нее странная, очень настойчивая мысль, что она как-то создана для меня, предназначена мне, понимаете? Поэтому, при каждой встрече с ней, мне кажется, что она преследует меня.
— Бедный, — вставила Ирина.
— Здесь нет ничего достойного сожаления. Я сам себе часто хочу объяснить, как случилось, что она всегда в наши встречи говорит об одном и том же. Я не понимаю ее. Удивляюсь ей. Она чужой мне человек, а вот может же случиться такое впечатление, как у вас, будто… Это просто… не знаю…
— Неужели так просто? — подхватила Ирина. — И вы никогда не давали повода?
— К чему?
— Ну… она не имеет оснований так себя держать с вами?
— Ирина!
Он взял наконец ее руки.
— Зачем вы тогда говорили о своем одиночестве? — спросила она, уткнув подбородок себе в плечо. — Я думала, что моя поддержка была нужна вам, а вы…
— Постойте, Ирина, постойте! Разве этот год не показал вам… Да нет, что говорить! Я вам обязан всей моей удачей, всем моим трудом, радостью моих…
Она вырвала у него свои руки.
— Мне становится тяжело с вами. Все одно и то же: труд, труд, труд! Скажите мне, а я, что же я? Неужели вы не видите, что быть только средством… что я… ну, я не знаю, как сказать!.. Я начинаю чувствовать, что нужна была для ваших симфоний, а когда вы их написали, пришли другие, и я…
— Ирина, милый друг! — с мольбою выкрикнул Никита.
Он бросился к ней, но она, вздрогнув и смутившись, посмотрела на дверь. Никита оглянулся.
На пороге стоял Матвей Васильич.
Он был в пальто, которое горбило его, отягощало и как будто старило больше, чем другая одежда.
— Помешал? — спросил он, сипло и медленно вздохнув.
— Нет, — поспешно отозвалась Ирина. — Мы говорили о концерте.
— Вижу, какой концерт, — тяжело сказал Матвей Васильич.
— Заходи, — пригласила Ирина, но тут же поправилась: — Или мы придем к тебе, потом. Хочешь?
— Нет, — сказал Матвей Васильич, — зачем же? Я проходил мимо, вздумал заглянуть. Да.
Он опять вздохнул, мутным, усталым взором поглядел на брата и, не прибавив ни слова, грузно повернувшись, ушел, сутулый и большой.
Итак, умер Шеринг.
Почему не десяток других людей, которых можно было бы легко заменить?
Пустой вопрос. Человек беспомощен перед смертью. Он отвоевывает у нее шаг за шагом (вот именно, именно так Родион выражает свою мысль — отвоевывает шаг за шагом), но смерть все еще полновластна над человеком. Придет время — он умерит ее аппетит и будет даже регулировать ее.
— Ясно, — говорит Родион вслух, — урегулирует.
Но пока такие случаи неизбежны? Конечно.
Тогда почему смерть Шеринга причиняет страдания, почему с ней нельзя примириться?
Потому что она неожиданна, потому что она бессмысленна, потому что, черт знает…
Стоп, стоп, Родион! О каком смысле может быть речь? Смерть Шеринга неожиданна? Да. Значит, это — несчастный случай?
— Ясно.
Так ли? Ведь в каждом несчастий всегда отыскивают и почти всегда находят виноватых. Ну, скажем, рабочему оторвало руку. Может быть, виноват он сам, неосторожно обращаясь с машиной, может быть, администрация, которая…
— Да, да, администрация, — бормочет Родион, теребя взлохмаченную копну волос на затылке, какая, к дьяволу, администрация? Что за чушь!
Но был же, в самом деле, человек, от которого больше всего зависела жизнь Шеринга?
— А-а!
Десятки раз передумал все это Родион и — попусту, безрезультатно!
— Жертва, — решил он, — Шеринг — жертва, неизбежная в большом деле. Умирали же люди на войне.
Нельзя, конечно, относиться к человеку так, как на войне. Долг требует от нас особой бережливости, а мы как будто ленимся доискаться, кто виноват в такой огромной потере, как Шеринг.
Но кто же, кто?
Не проверить ли еще раз обстоятельства смерти? Бесплодно! Они все памятны и так обыкновенны, и так… необъяснимы.
Почему, например, мужественный, непоколебимый Шеринг обнаружил в последнюю минуту такой испуг? Чего он испугался? Разве прежде ему не приходилось глядеть в глаза смерти? Что он хотел сказать своему сыну? Зачем он звал его? Может быть, здесь искать разгадку?
Родион хорошо помнил, как однажды, поспорив со своим сыном, Шеринг отвернулся и сказал, словно самому себе:
— Отец был революционером, а сын будет остолоп.
Шеринг посмотрел на Родиона и засмеялся, но Родиону стало неловко, потому что смех Шеринга был фальшивым и как будто виноватым.
Зачем же понадобился ему перед самой смертью этот остолоп?
Родион, прикрыв глаза, вызвал в памяти нахохленную головенку восемнадцатилетнего мальчугана и заново видел, как он оттопыривает губы и, стараясь говорить баском, горячится.
— Товарищ, вы устарели! — наступает он на отца. — Ни одного житейского факта вы не можете разрешить без сусальничанья: революционная этика, в традициях старой гвардии и прочая! Мы — люди нового, практического века, а вы становитесь музейным экспонатом. Мы приняли от вас ваше завещание и приступаем к работе. Позвольте нам знать, как лучше строить описанную в ваших книжках жизнь. Мы прежде всего хотим уметь работать, то есть быть специалистами! Из вас же никакого толку не выйдет, вы ни одного дела не знаете. Что, я не прав, не прав?
Он хохлился еще больше, грыз ногти, краснел и несся дальше:
— Пошлют вас в банк — вы в банке. Пошлют в тюрьму — вы в тюрьме. Потом — в сорабисе, потом — не знаю где. Вы думаете, при помощи политики можно все сделать? Детская болезнь левизны!
Тогда, поймав этого мальчугана в уголке, Родион сказал назидательно:
— Много ты умных слов говоришь. Мы таким словам сколько лет учились, да и то редко их говорим, а ты сыплешь почем зря. Этак тебе веры не будет.
— Вы, кажется, пользуетесь знакомством с моим отцом, чтобы говорить мне грубости? — напыжившись, ответил мальчуган.
Родион махнул рукою.
Он машет рукою и сейчас, в безнадежности, почти в отчаянии, не умея справиться с разбегающимися во все стороны воспоминаниями, сбитый с толку путаницей чувств, которые взбаламутили его в эту проклятую ночь.