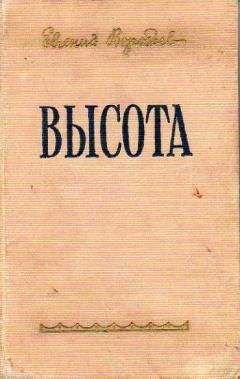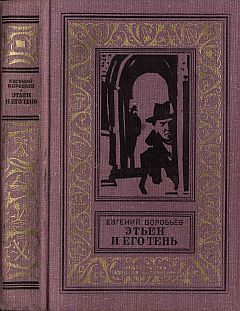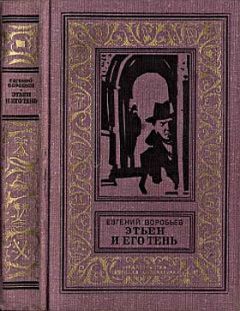Он и не скрывал, что характер у него сварливый. Его возмущал сам факт, что пушки, хотя и дальнобойные, установлены на окраине Москвы. Конечно, с солдата нельзя спрашивать, как с генерала. Но все ли солдаты отдают себе отчет в том, где они нынче воюют? Пал Палыч разволновался, на его острых скулах выступили красные пятна.
Во время разговора в дом вошел телефонист Федосеев. Ну теснота, набились прямо как на вокзале! Сизое махорочное облако наподобие дымовой завесы — и хозяев не увидать.
Федосеев нерешительно потоптался в дверях и собрался уходить, но хозяйская дочь пригласила его раздеться: вот и чайник скоро поспеет. Она кивнула на плиту, где стоял большой медный чайник, надраенный до слепящего блеска.
— Какой может быть чай, когда посуда нужна совсем для другой жидкости!
Пал Палыч уже отсердился, он достал бутылку и вручил ее Нечипайло.
Анастасия Васильевна и ее дочь, которую Нечипайло уже фамильярно называл Грунечкой, мобилизовали все сосуды. Нужно было обладать глазомером наводчика орудия № 4805, чтобы никого не обделить живительной влагой и в то же время не налить лишнего в пластмассовый стаканчик, в рюмку, в алюминиевую кружку, в стакан тонкий, в стакан граненый, в фарфоровую чашечку и в латунный колпачок от снарядного взрывателя; колпачок обнаружился в кармане у этого тихаря Суматохина.
Нечипайло все подмигивал симпатичной Груне нагловатыми голубыми глазами, поглаживал себя по голой голове, будто поправляя несуществующую прическу, и молодое лицо его никак не сочеталось с преждевременной лысиной. Руки в татуировке не знали покоя, и сам он не умолкал ни на минуту.
Федосееву вспомнился другой случай. Дело было еще в начале осени на Смоленщине. Вошел Нечипайло в избу с компасом в руке и сказал хозяйке: «Бабка, вот посмотри на компас. Прибор показывает, что у тебя в доме спрятана самогонка». Нечипайло озабоченно вгляделся в стрелки компаса, пошевелил губами, как бы подсчитывая что-то в уме, и добавил после паузы: «Три бутылки». «Не может быть! — всплеснула руками бабка, испуганно косясь на компас. — У меня всего одна бутылка, и от той разит сивухой». «Вот ту бутылочку и пожертвуй. Какая может быть сивуха? Смоленское шампанское!!!»
Анастасия Васильевна поставила на стол миску с квашеной капустой, холодную картошку в кожуре, пузырек подсолнечного масла.
От чашечки она отказываться не стала и пояснила Нечипайло, что употребляет водочку главным образом с лечебной целью:
— Привязалась какая-то гипертоническая болезнь. Доктора обнаружили давление в крови.
Рюмку поставили и перед Груней, но она отказалась.
— Может, вас, Грунечка, компания не устраивает? — обиделся Нечипайло.
— Просто не имею права. Обязалась вести нормальный образ жизни.
Она сдержанно рассмеялась, поправила пучок светлых волос и поглядела на Федосеева; у нее были совсем темные, чуть раскосые глаза.
Груня достала из сумки бумажку, но вместо Нечипайло почему-то протянула ее Федосееву, сидевшему напротив.
— «Расписка, — читал вслух Федосеев. — Я, нижеподписавшаяся, добровольно вступая в кадры доноров Московского института переливания крови, даю настоящую расписку в том, что обязуюсь аккуратно выполнять свои донорские обязанности и вести нормальный образ жизни...»
Пал Палыч громогласно выразил неудовольствие по поводу того, что Груня записалась в доноры. Тем более дополнительного пайка ей за это еще ни разу не выдали. А если привяжется малокровие? Она и так худенькая. И ездить отсюда в центр города, к черту на кулички....
— А я вот никогда в Москве не был, — признался Федосеев, пожав массивными плечами. — Эшелон кружился-кружился весь день по Окружной дороге...
— Зачем весь день? Ночью выгрузили. Станция Сортировочная, — уточнил Кавтарадзе, по прозвищу Сибиряк; он самый зябкий на батарее и уселся поближе к плите. — Легче на Эльбрус забраться, чем в Москву.
Пал Палыч не понял, при чем здесь Эльбрус, он был поглощен мыслями о Груне, которая своевольничает и ездит в этот самый институт переливания. А долго ли сейчас угодить в Москве под бомбежку? Разве радио предупреждает о каждом налете? Случалось и так — фашист уже сбросил бомбы, а воздушную тревогу еще не объявили. Пал Палыч ведет учет всем воздушным тревогам, начиная с самой первой, двадцать второго июля, и радиоточку теперь никогда не выключает. Особенно много нервов он истратил семнадцатого и девятнадцатого ноября — объявляли по шесть тревог.
— Кто тебя не знает— подумает, ты и в самом деле такой, — сделала Груня отцу замечание и покраснела, а поняв, что покраснела, опустила голову, — А я не только в доноры, и в медсестры пойду! В Тимирязевке большой госпиталь раскинулся. И номер узнала в политотделе. Двадцать три восемьдесят шесть.
— Чем в том госпитале горшки выносить, лучше к нам в артиллерию, — встрял в разговор Нечипайло. — Мы все-таки — боги войны!!!
— Не боги горшки обжигают, — невпопад напомнил поговорку Суматохин.
Нечипайло расхохотался, со словами «Вот дает!» сильно стукнул по спине флегматичного Суматохина, а затем неожиданно запел высоким чистым тенором:
Я долго тогда в лазарете
В обнимку со смертью лежал,
И плакали сестры, как дети,
Ланцет у хирурга дрожал.
— Ты пой, пой, служивый, я песни уважаю, — сказал Пал Палыч одобрительно. — Но только когда они ко времени. А то, помню, войну объявили — весь день по радио песни орали безо всякого антракта...
— А меня возьмут в артиллерию? — спросила Груня и поглядела в глаза Федосееву.
Тот беспомощно развел большими сильными руками.
— Зачем не возьмут? Медперсонал требуется. Кто остался живой после Соловьевой переправы? — Кавтарадзе говорил медленно, с трудом подбирая русские слова. — Фельдшер Гуревич и Шура Окунева, санинструктор. Ой, смелая барышня! Так что возьмут...
— Будете у нас, Грунечка, богиней войны! — Нечипайло пригладил отсутствующие волосы.
Пал Палыч язвительно поблагодарил Нечипайло за придумку насчет дочери и поднялся из-за стола, свирепо отодвинув табуретку. Он долго ворчал, с Груней не разговаривал, даже не смотрел в ее сторону...
Кто бы мог подумать, что на рассвете артиллеристов подымут по тревоге и что на этот раз тревога окажется действительно боевой?
После нескольких пристрелочных выстрелов из первого орудия весь дивизион открыл огонь. Тяжелые 152-мм орудия стреляли чуть ли не на предельной дальности. Телефонист Федосеев первый узнал, что они ведут огонь по противнику, занявшему Красную Поляну, по автоколонне немцев, втянувшейся в Прудки, по южной околице деревни Катюшки, которая на полтора километра ближе Красной Поляны, по железнодорожному переезду на станции Лобня и по другим целям.
Номера расчетов действовали сноровисто. Только Суматохин двигался вяло, работал неторопко. И сейчас на его лице не было написано ничего, кроме того, что его разбудили раньше времени. Но товарищи по расчету прощали его, потому что и под огнем, в минуты отчаянные, Суматохин не изменял своей неторопливой манере двигаться, соображать, отвечать и тем самым нечаянно ободрял окружающих. Осколки свистят, а ему и пригнуться лень.
Нечипайло, напротив, суетился на огневой позиции, без умолку болтал. В минуты большого напряжения он любил слышать свой голос. Левой рукой вращал поворотный механизм и при этом приговаривал:
— Это для фрица-убийцы, это для фрица-кровопийцы, это на помин офицерской души, а это — еще кой-кого оглуши!..
Через десяток минут Кавтарадзе уже грел руки о ствол своего орудия. Видно было, как над ним струится горячий воздух.
Все широко раскрывали рты — не так больно бьет в уши. Земля успела основательно промерзнуть и еще больше сотрясалась при каждом выстреле.
А когда повели беглый огонь всем дивизионом, сразу из шести стволов, в ближних домах вылетели стекла, а кое-где сорвало с петель, с задвижек оконные переплеты и двери.
Федосеев посматривал на покосившееся крыльцо. После очередного залпа он увидел, как на доме, уже потерявшем стекла, зашевелилась труба, кирпичи начали осыпаться и съезжать по скатам заснеженной крыши.
А сегодня, как на грех, собрался с силенками мороз. Все-таки декабрь на носу, и перепуганные жители, поднятые ни свет ни заря, изрядно оглушенные, затыкали выбитые стекла одеялами, подушками, охапками сена, наволочками, набитыми всяким тряпьем. Федосеев смущенно поглядывал на дом; казалось, и крыльцо скособочилось сильнее, и крыша надета набекрень.
Когда Федосеева сменили у полевого телефона, он, потирая ухо, онемевшее от трубки, зашагал к пострадавшему дому.
Пал Палыч сколачивал из фанеры и досок какое-то подобие ставен. Бросаются в глаза нарядные резные наличники, когда окна без стекол.