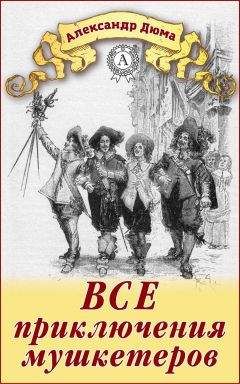Стемнело. Месяц, оторвавшись от деревьев, унесся высоко в небо, в холодную надоблачную пустоту, и одиноко горел там в зеленоватом мерцающем круге. Ветер, шатавший скворечни, слетел вниз, стригнул, как крылом, по снегу и кинул в лицо горсть сыпучего холода. Полы шинели стали парусами, принявшими в себя ветер. Я достал химическую грелку, набил ее снегом и сунул за пазуху. Маленький участок груди быстро погорячел, но тепло это не сообщалось телу. Я хотел переместить грелку, но она прорвалась, осыпав меня черным порошком, и я швырнул ее прочь.
Поселок тянулся вдоль шоссе, обсаженного тополями. Надо было поторапливаться. Все вокруг начинало приобретать тот подозрительный дымчато-багряный отсвет, который служил предвестником куриной слепоты. Тени деревьев на дороге и сами деревья начали меняться местами, я боялся наступить на тень, думая, что это дерево, и смело шел на дерево, принимая его за тень. А сама дорога под месяцем круто взмыла вверх, и я невольно откидывался назад, чтобы восстановить прямой угол между мной и ею. Спасаясь от этого заколдованного мира, я с ходу вломился в какую-то дверь, проскочил незапертые сени и оказался в черной горнице.
Там находились старуха, молодая солдатка с младенцем на руках и средних лет усталая женщина с ярко-синими глазами.
— Раненый? — с состраданием спросила старуха.
Я объяснил им, кто я такой и зачем приехал в городок.
— Раздевайтесь, товарищ командир, — сказала старуха. — Я вам валеночки дам. — Она достала с печи пару разношенных, драных валенок. — Нехорошие, а все же тепше будет.
Я с наслаждением сунул ноги в их колючее тепло. Ноги сразу согрелись, но остальному телу стало будто еще знобче, меня так и трясло.
— Проходите сюда, товарищ командир, здесь печка топится, — сказала старуха, распахнув дверь в другую комнату.
Коричневый, грациозный, как цирковой конь, доберман-пинчер выскочил из комнаты и забегал по избе, вскидывая плоскую змеиную голову с длинной острой мордой. Откуда такой красавец в крестьянской избе? Это был аристократ высшей марки: дрожь волнами пробегала по его узкому, нервному телу. Когда я захотел его погладить, он брезгливо фыркнул, обнажив мелкие острые зубы.
Еще более поразил меня вид комнаты. Полка с книгами, ковер, широкая тахта, письменный стол, заваленный бумагами, фотографии в рамках. Я не решался войти.
— Проходите, проходите, — сказала старуха, заметив мое замешательство. — Их нет…
Я понял, что «их» — значит хозяев, и осторожно прошел к железной печурке. В комнате действительно было очень тепло. Плотный ласковый жар обкладывал тело со всех сторон, словно закутывал в нагретый мех. Около печки лежал штабелек сухих березовых дров. Старуха открыла дверцу и, растревожив угли, сунула полено, мгновенно занявшееся веселым, трескучим пламенем.
— Здесь… у нас… — говорила она, шевеля огонь в печке — бригврач с женой живут… Он сейчас в отъезде. На передовую, сказывают, полетел…
«Ну и отлично, — подумал я. — По крайней мере мне не придется отыскивать себе другое пристанище».
— Он строгий человек, справедливый, — продолжала старуха. — У них ни крику, ни ругани, ни-ни… А как она что не по его сделает, он ей объясняет. Спокойно, так, чтоб она поняла. Терпеливый человек. Иной раз нам слышно: он час и два объясняет, а голоса никогда не повысит. Она, правда, иной раз заплачет, а он обратно объяснит, что плакать не надо. И так все ровно у него получается. Заслушаешься…
— Бывало, он ей всю ночь объясняет, — вмешалась женщина с синими глазами. — Прямки удивление, сколько человек слов знает…
— Да, милая, образованием у него какое! Что она перед ним есть? — вмешалась солдатка. Тьфу, и только! Приехала сюда с медицины своей и ничего не может. Кабы не он, ее бы на фронт укатали. Я слышала разговор промеж них, он ей объяснял…
— А уж живут богато! — вздохнула старуха.
Пес, проскочив мимо солдатки, беспокойно заметался по комнате, обнюхивая пол, вещи, и жалобно скулил. Мое присутствие доставляло ему почти физическое страдание. Его длинный нос, верно, остро чувствовал тревожный запах дорог, идущий от моей одежды, запах, столь противный и чуждый духу этой комнаты. Мне стало не по себе.
— Уф, отогрелся! — сказал я и пошел к двери. По дороге я бросил взгляд на фотографии, украшавшие письменный стол. Одна из них, судя по ромбам на петлицах, изображала самого бригврача. Сухощавое, скупое лицо, редкие волосы на прямой пробор, тонкий хрящеватый нос. Подобранное и невыразительное лицо. Но чем дольше я смотрел на карточку, тем сложнее становился образ бригврача. Что-то скрытое и страстное было в его тонком, тесно сжатом рте и слишком светлых острых глазах.
Другая фотография принадлежала женщине, очевидно жене бригврача. Совсем юная, лет двадцати двух, чуть вздернутый нос, густые светлые волосы.
Я уже был в дверях, когда мне неудержимо захотелось еще раз взглянуть на фотографию жены бригврача. Я обернулся. Странное лицо. Казалось, его не вмещает рамка. Оно выходило из рамки и наполняло комнату огромной, доброй, беззащитной и вместе задорной улыбкой. Меньше всего ее можно назвать красивой: большеротая, большеглазая, курносая. Но, быть может, это и есть самая лучшая красота, когда в каждой черточке сквозит хорошая душа?
— Присаживайтесь кушать, товарищ командир, — раздалось за моей спиной и я покинул комнату бригврача.
Старуха подала на стол чугунок с борщом. Мы похлебали из общей миски. Хотя борщ был жидкий — вода с черными капустными листьями и разваренным бураком, — мне показалось, что я никогда не ел борща вкуснее. Едва я покончил с едой, как меня стремительно потянуло в сон. Хозяйка заметила, что я клюю носом, и принялась стелить постель. Она накидала на пол соломы, сверху положила два тулупа, а на укрытие дала толстое стеганое одеяло.
Я разулся и, натянув одеяло на голову, впервые за последние дни погрузился в настоящий глубокий сон.
Очнулся я от бьющего в глаза света и услышал встревоженный голос старухи:
— Вошли… попросились на ночь. Ну, я пустила, человек больной все ж ки…
— Надо было документы спросить, — произнес хриповатый женский голос.
— А чего мы в документах понимаем! — отозвалась старуха.
— Опусти фонарь, — произнес другой голос, тихий и мягкий.
Пятно света качнулось на моем лице и сползло в сторону. Я открыл глаза.
Надо мной склонились две молодые женщины. В позе женщины, склоненной над спящим, всегда есть что-то материнское. На меня пахнуло двойным очарованием молодости и материнства. Правда, я быстро сообразил, что до их молодости мне нет никакого дела, а материнством тут не пахло. Полуослепленный фонарем, снова направленным мне в лицо, я все же мгновенно уловил их черты. Одна была полная, с красноватой кожей, серо-зелеными глазами навыкате, — пристальные и тусклые, они выражали брезгливое недовольство. Зато огромные темно-карие, с голубоватыми чистыми белками глаза второй светились мягким любопытством и состраданием. Единственно в расчете на эти глаза решил я бороться за свое место в избе. Конечно, я сразу узнал милое, задорное, доброе лицо жены бригврача.
Все время, пока длилось взаимное разглядывание, мои руки самовольно скребли зудящее тело. Но тут меня отпустило, и я в нескольких словах объяснил свои обстоятельства. Краснолицая потребовала документы, но жена бригврача одернула ее:
— Оставь, не надо!
Ворча, краснолицая погасила фонарь, и обе молодые женщины ушли в другую комнату, Я слышал, как они там раздевались, смеялись, пили чай. Затем из двери потекла сизая струйка табачного дымка. Мне тоже захотелось курить. Я встал и, постучавшись, слегка приоткрыл дверь. Женщины сидели в креслах за круглым, столиком в теплых байковых халатах, поджав под себя ноги. Курила старшая.
— Простите, у вас не найдется немного табаку?
Старшая сделала такой жест, точно хотела отдать мне чинарик.
— Одну минуту! — поспешно сказала жена бригврача, спрыгнула с кресла и достала пачку «Золотого руна».
Я было шагнул вперед, чтобы принять дар, но она испуганно вскрикнула:
— Нет, нет! Я сама!.. — Издали, вытянув руку с поголубевшими жилками в локтевом сгибе, она протянула мне табак.
Этот вскрик отвращения был вполне естествен, и все же я почувствовал себя обиженным.
— Не бойтесь, — сказал я. — Контузия, в чем бы она ни проявлялась, не передается окружающим. Вам, как врачу, это должно быть хорошо известно.
— Простите, — пробормотала она. — Бога ради, простите…
Я засмеялся и вышел, притворив за собой дверь. Кажется, подруга выговаривала ей за чрезмерное смирение. Во всяком случае, я расслышал фразу: «Ты забываешь, кто ты такая!» — «Ах, оставь!» — с досадой ответила жена бригврача.
Утром в полусне я видел, как старшая из подруг, толстая, краснощекая женщина, прошла через комнату совсем одетая, в треухе и ватнике, и хлопнула входной дверью. Теперь дверь хлопала беспрестанно. Хозяйки готовили теплое пойло для коровы, выносили корм птице. В просвете мелькал кусочек голубого морозного утра, петух с поджатой ногой, парок, идущий от чего-то выплеснутого во двор. Одеяло защищало меня от холода. Привыкнув к хлопанью двери, я снова ненадолго заснул.