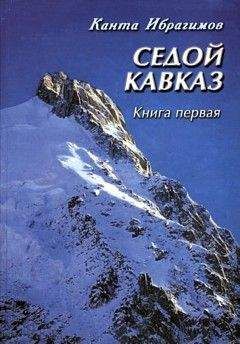Колька, прижатый столь очевидными доводами, молчал. Ему и конь уж не казался таким красивым, и радость померкла. А тут еще дядя Кирилл добавил:
— А коль хошь, дык я и деньги тебе эти отдам — возьми аргамака даром. Не обеднею от этого.
— К чему они мне!
— К тому, что, гляжу я, выбиться ты норовишь в хорошие люди… А найди-ка такого хорошего человека, чтоб скакуна тебе дал али хоть клячу какую… Найдешь?
Колька не рад был, что в ходок пересел. Уж лучше бы в седле промаялся. Недалеко осталось до дому-то. Хоть бросить ему коня этого вместе с седлом, из ходка выскочить, да и пусть едет. А Кирилл Платонович не унимался:
— Ты что ж, думаешь, отец твой по правде живет?
«Провалились бы вы вместе с отцом!» — озлобившись, подумал Колька. Вслух ничего не сказал. А тут впереди человек пеший показался, Кирилл тоже примолк.
— Х-хо! Здоро́во, Виктор Иванович! — догнав пешехода, придержал вожжи Кирилл Платонович. — Эт чего ж ты по ночам-то шастать надумал?
— Овечка потерялась, волк ее задави, — поздоровавшись, ответил Виктор Иванович, затягиваясь дымом из толстенной самокрутки.
— Да ведь овечки-то все вроде бы у деда Цапая, в отгонном табуне пасутся… Аль не отдали?
— Хворала она, да поправляться стала, — пояснил Виктор Иванович. — Выпустили — теперь вот ищи!
— Ух ты! — засмеялся Кирилл, не веря ни единому слову Данина. — Больно уж далеко ищешь ты ее. Небось возля речки где-нибудь спит… Ну, садись, что ль, подвезу.
— Да нет, еще погляжу. Вроде бы в эту сторону вдарилась она.
— Да плюнь ты на ее! Садись. Ты ж мине подвез как-то с Прошечкиного току.
— И еще подвезу, коли на таком же деле застану, волк тебя задави.
— Ну ладноть, — шевельнул коня Дуранов, — кто старое помянет, тому глаз вон.
Ходок затарахтел, удаляясь, а Виктор Иванович проворчал вслед нежданному собеседнику:
— А кто забудет старое, тому два вон, волк тебя задави, разбойник!
Уже вторую неделю ходил Виктор Иванович каждую ночь по этой дороге в условленное место и возвращался ни с чем. От Авдея никаких вестей нет, стало быть, Антона Русакова в Троицкую тюрьму не перевезли. Из Челябинска тоже ни звука нет. Уж не пустили ли Русакова в расход? Так ведь и об этом бы сообщили… Как бы там ни было, а пока придется ходить в назначенное место и ждать. Не выстряпывается что-то.
Не мог знать Виктор Иванович, что именно в этот час, а может быть, и в эти самые минуты, выгрузившись на станции из вагона, особо опасный политический заключенный под покровом ночи, сопровождаемый сильным — конным и пешим — конвоем, позвякивал кандалами, направляясь в Троицкую тюрьму. Это и был Антон Русаков. Но Виктор Иванович узнает об этом лишь через несколько дней.
Пронюхав о готовящемся побеге, челябинские жандармы испросили разрешения перевести Антона в Троицкую тюрьму — оттуда не было совершено ни одного побега. Но и перевозить сразу опасались. Усилили охрану Русакова, глаз с него не спускали. И перевозку так организовали, что ни с какого боку не подступиться. И дня этого долго не назначали, а назначив, держали его в строжайшем секрете.
А Кирилл Платонович после встречи с Даниным, будто на себя обозлившись и на коня, погнал беспощадно, заторопился, как на пожар, и к Кольке с разговорами приставать перестал. Всколыхнулось в нем горячей волной все былое, заклокотала ключом притушенная временем ненависть. И-эх, распотешиться бы теперь над этими праведниками! Не только тело истерзали тогда мужики ему — душу вывернули и от любимого дела отлучили: до сих пор покашливает, полгода мочился с кровью. Не хотелось, ни за что не хотелось поддаться, да ничего не поделаешь — вся жизнь перевернулась. Все переиначилось, ровнее пошло: ни гулянок ночных с дружками забубенными, ни бесшабашных вылазок и налетов. И Василиса его чуток посветлела. А недель пять назад по хутору слух прошел, бабкой Пигаской пущенный: «Дураниха-то, никак, зачижалела! Гляди ты, через сколь годов баба проклюнулась».
Развиднелось уже. Хутор открылся в неглубокой впадине сразу, весь. Подъезжали к нему со стороны Кестеровой усадьбы, потому с ходу и подвернул к его воротам Кирилл, спросил у Кольки:
— Сам, что ль, разобъяснишь отцу про замену коня аль как?
— Чего я ему разобъясню! — оторопел Колька от неожиданного вопроса, едва не плача и торопливо слезая с ходка. Откуда Кольке знать, как отец поглядит на такую замену! Ведь без спросу все сделали.
— Ну, да ладноть, — смиловался Кирилл, выбираясь из ходка и разминая затекшие ноги, — пособлю я тебе и в этот раз, хоть ты меня и за человека почитать не хошь.
Кестер был уже на ногах. Услышав, что кто-то подъехал к воротам, вышел взглянуть. А Кирилл, наградив Кольку своим пронзительным, пугающим взглядом, тут же расплылся перед его отцом в виноватой, покаянной улыбке.
— Ну, Иван Федорович, набедокурили мы в этот раз. Не ругайся. Да ведь кто богу не грешен, кто бабке не внук! Уж я виноват — я и отвечу.
Кестер, чуть слышно, сквозь зубы поздоровавшись, тревожно и выжидательно поглядывал то на Кирилла, то на Кольку, то на незнакомого коня.
— Так уж вышло, — рассыпался мелким бесом Кирилл Платонович, — в степе гурт наш разбрелси, а я на парнишку пошумел. Сноровился он поскорейши скотину заворотить, да Цыган-то под им в лисью нору возьми да и оступись… Ногу сломал… Прирезали мы его, татарам продали… Возьмешь, что ль, вот этого за Цыгана-то?
— Возьму, — повеселел Кестер. И к Кольке: — На ходу-то как он? Легок, не ленив?
— Да легок, как ветер, — ответил за Кольку Кирилл Платонович. — Парнишка нагайку ни разу в руки не брал. Породный скакун. Аль не видишь?
— Ну, может, полукровный, а неплохой. Спасибо можно сказать за него.
— Ну, покудова, коль так, — взялся за вожжи Кирилл Платонович. — А ты, Колька, фартовый: гляди-ка, стрелял в воробья, а попал в журавля. Ты, Иван Федорович, как опять поедем за гуртом, дай этого коня сыну. Пущай покатается, раз уж ему повезло.
— Дам, дам, — на радостях посулил подобревший Кестер.
11
С Прийска Тихон вернулся часа в четыре пополудни. Сумной, невеселый воротился. С Настасьей да с ребятишками дома и получаса не выдержал: как услышал за стеной пьяные голоса, подался к брату своему, к Мирону.
Только порог переступил, а там — дым коромыслом. Макар с Дарьей посиживают за столом. Краснющие оба, как из бани. Смирнов Иван Васильевич на заглавном месте восседает, будто стог сена между копнами высится. Тоже, заметно, под парами. А рядом дед примостился — как огурчик, пьяного зелья он в рот не берет. И терпит это застолье Михайла Ионович исключительно из-за уважения к Смирнову, иначе убрался бы в свой угол.
Тут же и Леонтий Шлыков почему-то оказался. Правда, не за столом сидит — на лавке, возле печи, но, видать, угощенный. Глазки у него замаслились — веселый и до крайности довольный.
Однако блаженствовать Леонтию здесь оставалось недолго. Едва успел Тихон к столу пройти да поздороваться с мужиками, как из сеней ворвалась Ма́нюшка, жена, стало быть, Леонтьева.
— Эт чего ж ты, пес плюгавый, позабыл тута?! — набросилась она с ходу на мужика.
— Дык я, Ма́нюшка…
— Ты чего, как овца блудливая, по дворам-то шастаешь! Полхутора всколготила — как скрозь землю провалилси!
— Дык ведь, я ведь, Ма́нюшка…
Манюшка ухватила Леонтия за жиденькие редкие волосы и поволокла к выходу. Тот едва шапку схватить успел с лавки.
— Ох, знать, собака и вправду умнейши бабы, — запричитал Леонтий, — та на хозяина не брешет.
— Я тебе побрешу, проваленный!.. Ванька с утра кашлем заходится, а его, ирода, со всеми собаками не сыщешь… Тебе как ни биться, а к вечеру лишь бы напиться.
— Дык чем же я пособлю-то ему? — оправдывался Леонтий уже в сенцах.
Никто этому не удивился, потому как о жизни Шлыковых знали все, как и о других семьях в хуторе. Однако Иван Васильевич передернулся, будто горячая искра по спине пробежала. Показалось ему, что сварливая баба эта не на Леонтия больше-то злилась, а на него, Смирнова. И таким ядовитым взглядом одарила, что Иван Васильевич, словно проглотил чего-то непотребное, крякнул сердито. Спросил у Тихона, присевшего к столу:
— Чего выездил, Тихон Михалыч?
Никому и в голову не пришло, что Манюшка таким вот способом не наказать своего непутевого мужа хотела, а уберечь от беды вознамерилась.
— День сегодня праздничный, — прокашливаясь, неохотно отвечал Тихон, — господам покой полагается. Дальше управляющего не допустили. Сдал я ему образцы, об деле все обсказал. Посулил он доложить обо всем хозявам, да с конпаньенами еще советовать станут… Посля уж и к нам, видать, припожалуют… А коли откажутся, дак тоже знать дадут. Письменно уведомят.
Известие это вроде бы оскорбительным показалось мужикам. Все промолчали, а дед, повертев за ручку свою клюку, сказал раздумчиво: