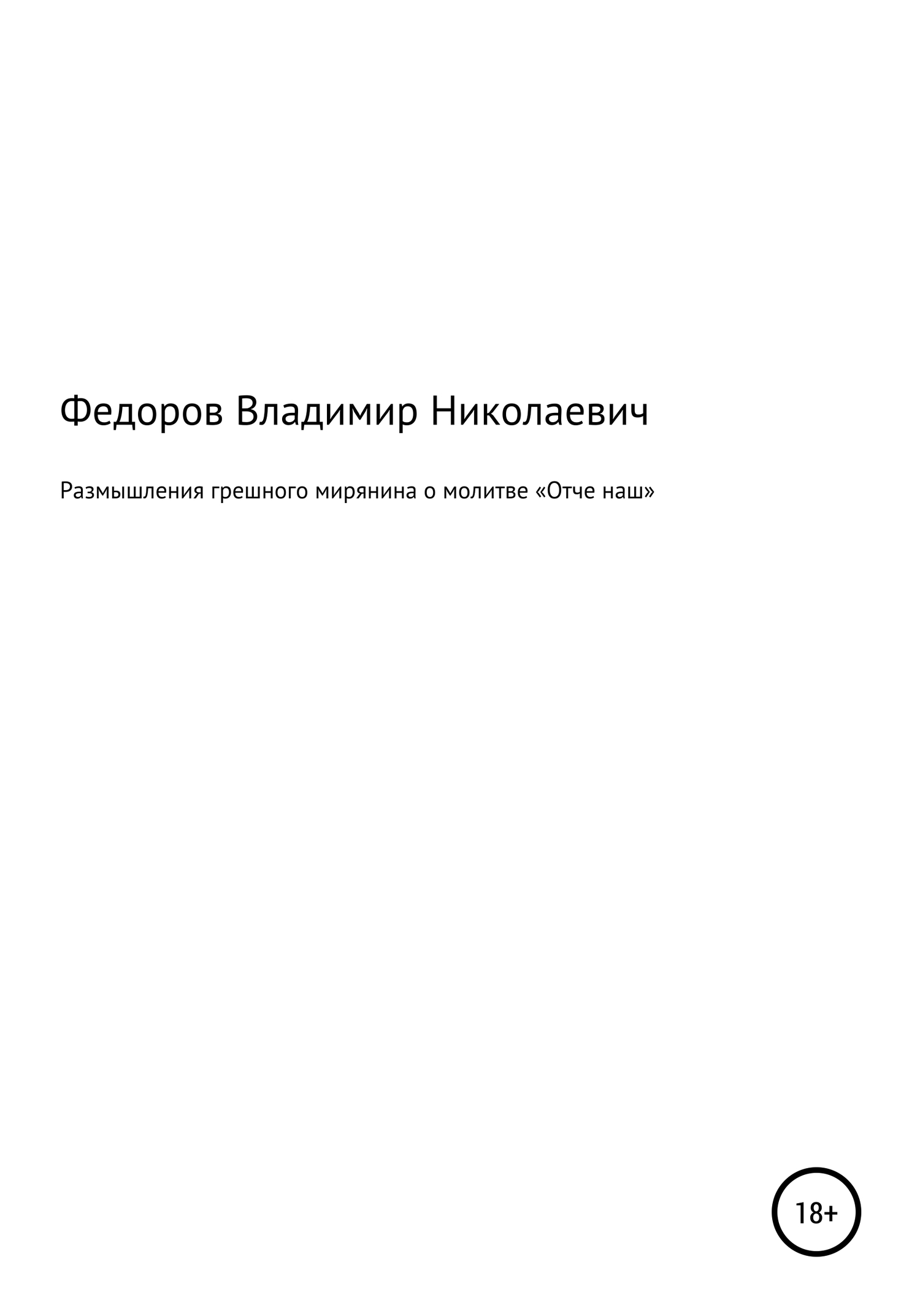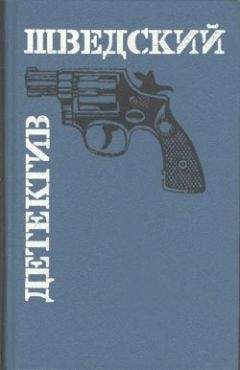платье на Любе! Они в ней самой сидят. Это разве не ясно? Их же не оторвешь, чтобы не задеть самых больных мест в человеке?
Теперь он идет, не отворачиваясь от ветра, не замечая хлестких порывов дождевых капель. И Вере сейчас очень жаль его — все понимающего, все учитывающего в своих отношениях с Любашей, но бессильного наладить жизнь в семье.
— Ну, зачем ты злишься? — трогает она его за рукав плаща. — Этим же ничего не изменишь, правда?
— Да, конечно, — тихо произносит он. — Ты извини, что я вот так, грубо… Хороший ты человек, Вера… Оч-чень хороший, — добавляет он со вздохом.
Вера отворачивается, скрывая горькую усмешку. Еще днем сегодня совсем иное говорил другой человек… Он, Василий, пришел к ней, когда в маркшейдерском никого не было, и не прошло нескольких минут, как они уже стояли друг против друга злые, несдержанные, бросая обидные слова.
— Ты авторитет себе липовый зарабатываешь ордерами, — бросил ей в лицо Вяхирев. — И никто не догадается, какой ты жестокий, мелочный человек!
— Авторитет?! Ордерами? — Вера ошеломленно смотрела на Василия. — Как тебе не стыдно! Неужели тебя не интересует доставить другим радость? Это же… это же…
— Другим? — Василий презрительно скривился. — Знаешь, мы здесь не на бюро комсомола, можно и отступить от газетных правил. Я хочу, чтобы прежде всего хорошо было тебе!
— Мне?
— Ну и… может быть, мне с тобою… Потому и решился на этот разговор, чтобы поставить все точки над «и». Или ты поймешь меня, или мы разойдемся сейчас, как чужие…
— Я поняла тебя, Василий, — качнула головой Вера. — И страшно мне, что чуть ошибку не сделала. Мы с тобой и впрямь чужие. Ордер ты получишь обратно, попрошу у Андрея.
— Зачем мне ордер без тебя? — шагнул к ней Василий, и голос его стал просительно-жалобный. — Ты пойми, почему я так с тобой несдержанно поговорил.
— Не надо, Василий, — грустно сказала Вера. — Мы и впрямь очень чужие, далекие люди…
«Чужие, далекие», — усмехается сейчас Вера, шагая рядом с Андреем, но все же, хотя она и думает так, ей сейчас нелегко. Нет, не потому, что все так получилось, а просто тяжело сознавать, сколько еще нехорошего, дрянного в притягательных, интересных на первый взгляд людях.
Дождь усиливается. Налетевшие в темноте порывы его загоняют Веру, Андрея и трех других дружинников под навес у ворот крайнего дома улицы. Дальше начинается степь с островками невысоких кустарников и дорогой, уходящей к мерцавшей огнями шахте.
Все вздрагивают, услышав близкий треск мотоцикла. Он приближается от центра поселка. Водитель в темной воинской накидке тормозит машину, осветив сгрудившихся у ворот дружинников. Потом выключает свет и шагает сюда, к воротам.
— Кто за старшего? Копылова? — окликает он, и Андрей узнает сержанта Москалева. Вера отходит с ним в сторону, но тут же оба возвращаются, к дружинникам.
— Вот что, ребята, — поспешно говорит Москалев, мельком осветив их лица и опять погасив фонарик. — Сейчас здесь появится со стороны шахты человек с тележкой, надо его задержать.
— Звонили с табельной, что от склада сюда поехал, а сторожа даже и не видно. Двое — на ту сторону быстрее, вы, — тычет он в плечо Андрея, — со мной… А Копылова с одним человеком здесь останутся.
Андрей шагает вслед за Москалевым в дождевую сетку. Они двигаются по хлюпкой грязи по направлению к шахте, вглядываясь в мутную пелену дождя. И все же человек, везущий на тележке что-то громоздкое, вырастает перед ними неожиданно. Он останавливается, уступая им дорогу. Москалев резко окликает его:
— Стой! Кто такой? Откуда?
Свет фонарика слепит мужчину, и Андрей тихо охает: опять Григорий…
Тот, поняв, что перед ним — милиция, морщась от света, спокойно говорит:
— Материалы кой-какие выписал вечером, везу вот…
— Выписал? Кто же тебе их ночью отпустил со склада?
— Какая ж ночь? — отзывается Григорий. — Одиннадцатый час всего… Получил-то я их еще в конце работы, задержался, тележку искал… Мог бы и завтра увезти, да боюсь — растащат. Фанера тут у меня. А это ты, Андрюха? — вглядывается он в лицо Андрея. — Поясни товарищу, что не такой я человек, чтобы дурными делами заниматься.
Но Андрей молчит. Он не сомневается в том, что везет Григорий краденые материалы. Сержант оглядывается на Андрея.
— А-а, Макурин… Что же это я тебя не узнал? Вот что… Оставайся с задержанным. Как фамилия-то? Пименов? Постой, постой! Трубы-то… Это ваше дело? Ясно. Вот что, Макурин. Ведите его к ребятам, а я слетаю на шахту. Проверю, жив ли сторож.
И исчезает под дождем.
— Слушай, Андрюха, — придвигается Григорий. — Крышка мне теперь будет! Тут одиннадцать листов, давай туда вон, в кустарник, штук девять сбросим и прикроем ветками, а? Быстрей надо, пока не вернулся милиционер. А те два листа, что останутся… Скажи, что завтра оформишь накладной или как еще, они ж тебя послушают… Христом богом прошу тебя, войди в положение! Капут ведь мне будет, крышка.
Андрей усмехается:
— В воровстве я не помощник, сам понимаешь. Ты знал, на что шел.
— Эх, ты! — шипит Григорий, метнувшись к тележке. Его освещают светом фонариков подошедшие дружинники.
Возле крайних домов Москалев нагоняет их.
— Ведите дальше, к штабу, — кричит он.
Вернувшись поздно вечером домой с дежурства, он не говорит Любаше о брате. По настороженному молчанию, повисшему в комнате, осунувшемуся лицу Любаши понимает, что за его отсутствие в доме был крупный разговор.
«Молчит, ничего не говорит, — с раздражением думает Андрей, укладываясь спать. — Мать дороже, чем я?..»
Больно Андрею сознавать, что это, пожалуй, так и есть.
Но сегодня Андрей был как раз неправ, Любашу удручает совсем другой разговор. Из памяти не выходят слова пьяного Ванюшки, ввалившегося в их дом вскоре же после ухода Андрея.
— Он мне, твой Андрюшка, теперь — ерунда! Правда, тетка Устинья? — покачнувшись оборачивается он к хозяйке. — Он в шахте — и я в шахте! А там — свои законы…
— Замолол, Емеля, — прикрикивает Устинья Семеновна, и торопливость, с которой мать прервала Ванюшку, настораживает Любашу. Ей кажется, что мать сознательно не дает высказать Ванюшке что-то такое, о чем у них шел разговор раньше. И это прямо относится к Андрею. Видно, дело не пустяковое — понимает Любаша по тревожному блеску в глазах матери.
— Иди, иди, проспись! — шагает Устинья Семеновна к Ванюшке. — Хоть и чужих нет — намелешь на свою голову.
— А какие такие законы в шахте? — неожиданно спрашивает Любаша, приглядываясь к Ванюшке.
— Законы? А-а, вон ты о чем… Наши законы! — ухмыляется тот и снова поворачивается к Устинье Семеновне. — Правда, тетка Устинья?
— Дурак ты, смотрю я! — строго осаживает та Ванюшку. — Иди, иди! Ну,