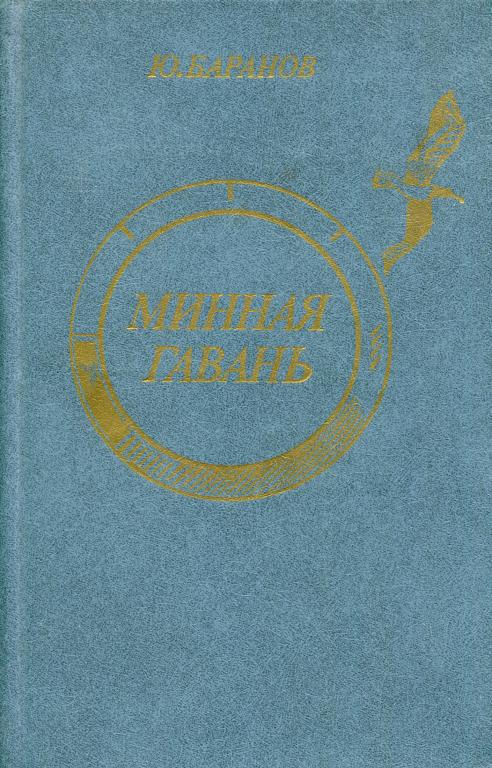свою тещу, едва оправившуюся от истерики и загородившую собой то, что было прикрыто на столе белой простыней. Сквозь слезы теща говорила что-то негромко и жалостливо. Владимир не слушал, не понимал ее. Он отстранил женщину рукой и приподнял простыню…
Даже на похороны он не мог остаться. Подлодку готовили к ответственному выходу в море. Случилось, что заменить Владимира другим командиром минно-торпедной боевой части было уже некогда и некем. Пришлось ему, не поборов в душе собственного горя, заниматься привычными корабельными делами. Он крепился, как только мог, но почувствовал, что нервы у него не выдерживают, и сошел с верхней палубы в каюту, надеясь там хоть немного опомниться.
«Надолго ли теперь хватит меня? — размышлял Владимир. — Пока держусь. А потом?.. Если матросы догадаются, что со мной происходит, я уж больше им не начальник… так себе, никому не нужный на лодке пассажир. — И вдруг вспыхнула злость на самого себя, на свою беспомощность. — Врешь ты все, Линьков, плачешься, как неврастеник, — ожесточаясь, подумал он и потребовал: — Возьми вот, зажми себя… так, чтоб пикнуть не смог. А ну, встать!»
Упершись руками в стол, он поднялся. Решительно отодвинул завизжавшую на роликах дверь и шагнул из каюты. Забыв пригнуться, крепко ударился лбом о притолоку, но не выругался, как раньше, а застонал. И вновь обмяк, почувствовал себя ни на что не способным. Линьков постоял некоторое время в коридоре, отчаянно растирая омертвевшее лицо руками. Вышел в первый отсек и начал взбираться по приставному трапу, тяжело бухая по перекладинам сапогами.
Свежий, крепленный морозом воздух вернул Владимиру привычные ощущения. Под ногами он почувствовал твердь палубы, над головой увидал темную, бесконечно впускавшуюся на него бездну Вселенной… Подлодка стояла на швартовых у пирса, покачиваясь на волне. Береговой прожектор шарил по ее длинному покатому телу, выхватывая из темноты фигуры сновавших по палубной надстройке людей. Внутренность легкого корпуса лодки от цоканья ботинок и сапог гудела, как перевернутое цинковое корыто, по днищу которого молотили кулаками.
Над сопками, над бухтой и над кораблем нависло неподвижное, подсвеченное звездной крупчаткой заполярное небо. Там, где оно сходилось с землей, уже занимались ранние сполохи: бледно-голубое мерцание словно приподнимало край занавеса, чтобы люди могли заглянуть без страха в бездну Вселенной. Владимир стоял на палубе среди людей, но ему было одиноко, зябко и неприютно. Когда Линьков обреченно решил, что вновь утратил в окружающим всякую связь — не способен что-то обдумать, что-либо предпринять, хотя бы просто вразумительно кому-то ответить, — с ходового мостика его окликнули. Линьков с послушным безразличием пошел на знакомый голос.
Командир лодки Николай Петрович Юрков, подняв воротник мехового кожаного пальто в заложив руки за спину, расхаживал по верху ограждения рубки. Взобравшись на мостик, Линьков остановился около рубочного люка, зябко поводя плечами и не вынимая стынувших рук из карманов альпака. Оставаясь в тени, Владимир видел из-под навеса освещенную прожектором невысокую, щуплую фигурку своего командира, казавшуюся в широком пальто и большой, с опущенными ушами шапке неестественно располневшей, раздавшейся. Его смуглое лицо с подстриженными усами было привычно озабоченным и грустным. Юрков молчал, будто никак не мог вспомнить, зачем ему понадобился Владимир. Среди офицеров командир был единственным человеком, которому Линьков рассказал о своем горе. Юрков обладал достаточным тактом и выдержкой, чтобы не задавать мучительных для Линькова вопросов. Он просто сделал то, что мог сделать: распорядился где надо насчет похорон, переговорил о чем-то с линьковской тещей и даже о состоянии новорожденной по телефону справился. Все это Владимир знал. Но ему было тягостно думать о том, что на лодке кто-то еще может узнать о его несчастье. Он боялся соболезнований и попросил командира никому и ни о чем пока не говорить. Командир удивился, но обещал молчать.
Держась за поручень, Юрков неуклюже и шумно впрыгнул на ходовой мостик. Внимательно посмотрел снизу вверх на Владимира, который ростом был намного выше, и спросил:
— Отчет о прошедших стрельбах составили?
— Я вам докладывал.
— Помню. А что флагманский минер?
— Подписал.
— Так. Ну и теперь у нас… — Юрков отогнул жесткий, неподдающийся рукав пальто и высунулся за борт надстройки, чтобы в свете прожектора лучше разглядеть на ручных часах время, опять вобравшись внутрь ограждения рубки, договорил: — Осталось ровно десять минут до выхода.
Сняв перчатки, Юрков подышал на застывшие от мороза пальцы и спросил:
— Как решили быть с дочкой?
— Не знаю, — хмурясь, ответил Владимир. Вдаваться в подробности на этот счет ему не хотелось. Командир догадывался о том, что творилось на душе у Линькова. Сразу же после похорон теща намеревалась увезти девочку в Москву. Владимир не соглашался.
— Что ж, придется исходить из того, что есть, — как бы разрешая сомнения Линькова, говорил командир, трогая указательным пальцем заиндевевшие усики. — Медицина вашу девочку отдаст не раньше как через месяц, а то и два. Сами понимаете, кормить ее некому… Словом, не скоро выпишут. К этому времени, думаю, мы вернемся в базу. И не беспокойтесь, никому, кроме вас, ребенка не отдадут. Но в этом ли дело? Суть в том, чтобы девочке вашей было хорошо.
Линьков молчал. Он понимал: остаться совсем одному было бы слишком невыносимо, но едва ли кто лучше тещи заменит его ребенку мать. Каким-то непонятным и далеким существом представлялся ему этот маленький человечек, принесший вместо радости столько горя. Он ловил себя на преступной мысли, что думает о своей дочке с какой-то неприязнью и сожалением, будто она, и только она, во всем случившемся была виновата. Но и расстаться с ней он теперь никак не мог: дочка — это все, что у него осталось от прежней жизни.
— Впрочем, всего за один раз не обдумаешь. Время и терпение, Владимир Егорович, — убежденно посоветовал Юрков. — Все у вас наладится, станет на свои места. — И, нагнувшись к рубочному люку, распорядился официальным голосом: — По местам стоять, со швартовых сниматься!
Раздвинув корпусом прибрежную шугу, подлодка выбралась на фарватер, гукнула напоследок ревуном и дала средний ход. Вахта заступила по-походному. Владимир, взобравшись на высокую откидную скамью, сидел на своем привычном месте вахтенного офицера, слева по борту. Ему всегда казалось, что ограждение рубки напоминает поднятый навес какого-то старомодного тарантаса, катящегося по неровной проселочной дороге.