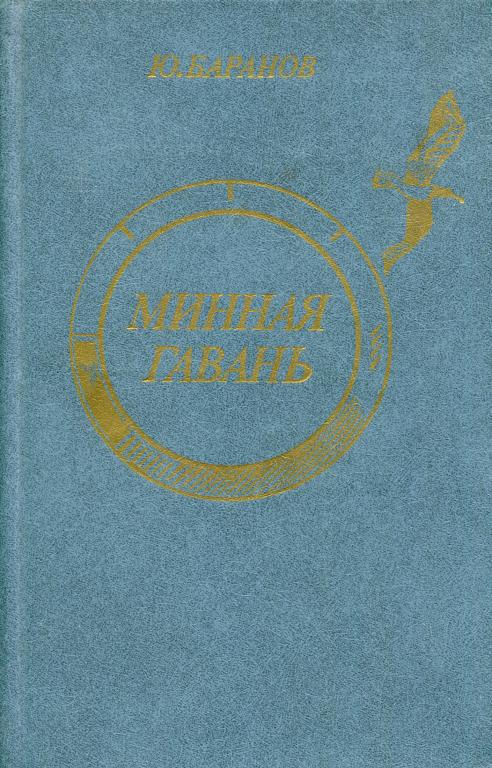Только этот тарантас отчего-то двигался не вперед, а валко пятился своим навесом назад. В окошки, вделанные в этом навесе, глядел рулевой, а Владимир, морщась от ледяного встречного ветра, глядел поверх навеса. Впереди было море, слева и справа за бортом громоздились крутые, припорошенные снегом сопки. И если за кормой были видны еще зыбкие, как мираж, городские огоньки, то с берега едва ли можно было разобрать ходовые огни подлодки. Ночь будто проглотила ее.
— На мостике! — прогудел из рубочного люка чей-то глухой, точно колодезный, голос. — Прошу разрешения подняться наверх!
— Добро, — угрюмо отозвался Линьков.
Прогромыхав по отвесному трапу ботинками, через комингс, люка перешагнул торпедист-первогодок Семен Гущин. В команде звали его попросту Сенечкой. По мнению Линькова, это был добросовестный, хороший матрос, хотя и казался человеком несерьезным. Он мог по-детски наивно удивляться любым пустякам, и ребята над ним вечно подтрунивали. Отшучиваться Гущин не умел. И разыгрывали его тем больше, чем меньше он на это обижался.
— Я покурить, — застенчиво объяснил Гущин, присаживаясь на корточках сбоку от рулевого.
— А я думал, что ты — по нужде… — не без иронии предположил рулевой.
Сигнальщик весело хохотнул.
— Прекратить треп, — обрезал вахтенных Линьков.
Опять на мостике восстановилось молчание. Лишь по-щенячьи взвизгивал в антеннах ветер да волна со всхлипом и вздохом ударялась о форштевень. В корме слышались глухие, надсадные выхлопы отработанных газов, будто дизеля никак не могли ими откашляться.
— А вы знаете, товарищ капитан-лейтенант, я снова уложился в норматив, — простодушно похвастал Гущин, — старшина засек время. Я приготовил аппарат к выстрелу секунда в секунду! — И, не дождавшись похвалы, спросил: — Вы не верите?
— Верю, — вынужденно отозвался Линьков. Ему неприятно было разговаривать с Гущиным. Так уж вышло, что из-за Сенечки Владимир не застал свою Лиду в живых. А ведь мог успеть, не задержись на службе лишние полчаса…
В этот злополучный вечер Владимир устроил Гущину дополнительную тренировку. И матрос научился готовить торпедный аппарат к выстрелу точно в заданное время. Только сам он, капитан-лейтенант Линьков, первый раз в жизни так безнадежно опоздал. Перед смертью Лида в бреду, не переставая, звала его, хотела не то что-то сказать, не то попросить о чем-то важном. Но так и унесла эту тайну с собой, никому не желая доверить ее, кроме мужа. Оттого-то и мучился Владимир, что не услыхал прощальных слов жены, без которых, казалось, не будет ему покоя. Теперь же, как бы в отместку, всю злость свою хотелось сорвать на Гущине, этом невольном виновнике его опоздания. А чтобы не быть все же к нему несправедливым, ничего другого не оставалось, как молчать.
На мостик поднялся торпедный старшина Василий Чесноков. Запахивая полы ватника, представился, как положено, для порядка, хотя на лодке все узнавали друг друга и по голосу.
— Десять минут, — напомнил оставшееся время перекура Линьков.
— Есть, — сказал старшина и про себя проворчал, закуривая: — Фу, гадость. И что мне батя уши за это вовремя не оборвал… Всем хоть бы что, а у меня всегда сплошные неприятности.
И от этой «затравки» вахтенные повеселели. С появлением старшины тотчас возникала именно такая бесшабашная обстановка, когда собравшиеся в кружок люди готовы смеяться по любому пустяку.
— А почему — неприятности? — полюбопытствовал Гущин.
— Потому, Сенечка, что я настырный человек и не перестал испытывать судьбу, — говорил старшина мягко и доверительно, как бы нарочно подшучивая над самим собой. — Страдаю от курева, можно сказать, с детства. Началось вот как… — Старшина втянул в себя крупный глоток дыма, вызывая своей медлительностью общее любопытство. — Помню, раздобыл где-то я чинарик. Дай, думаю, попробую, как это у бати получается. Залез под стол, массивный такой стоял у нас посреди комнаты, со скатертью до самого пола. Засмолил. Дым, как на пожаре, из-под скатерти валит. Младший братишка, Петюник, — надо сказать, человек большого подколодного юмора — на кухню прибежал и говорит нашей бабусе: «А Васька под столом газетку подпалил. Горит». Та сослепу не разобралась: налила полную кастрюлю воды, подняла скатерть и… хлобысть под стол!..
— Это на вас? — удивился Гущин.
— А то на кого же еще? И когда только бросишь переспрашивать, — скороговоркой упрекнул старшина и продолжал: — Бабуся охает, Петюник-шельмец хихикает. Я выскакиваю из-под стола, как промокший гусь, и — хлоп братана по затылку. Петюник — мне. Батя с работы пришел — обоих покарал. И натерпелся же я из-за этой дурной привычки… — Старшина отчаянно покрутил головой. — А совсем недавно, когда в отпуск ездил, пригласила меня в гости одна очаровательная цыпа…
— Доскажете потом, — оборвал разговорившегося старшину Владимир, — оба ступайте вниз.
«Несут чушь всякую…» — откровенно подумалось, когда матросы полезли в люк. Ему невыносима была их беззаботная болтовня. Владимир нервно заерзал, снял с головы шапку и, не замечая удивления сигнальщика, долго не надевал ее. Привстав с сиденья, он поглядел за корму, где остался город. Представилось, как чужие люди закроют глазе его жене, заколотят крышку гроба, потом набросают сверху мерзлой земли. И никому уже через несколько минут ни до чего не будет дела…
«Предатель, чурбан!..» — стучала в висках кровь. Было уже непонятно, как он мог уйти в море, даже не поцеловав свою Лиду в последний раз, не сказав ей прощальное «прости». Владимир подумал, что его непременно должно теперь настигнуть возмездие, хотя и не знал, в чем оно должно быть выражено. Ему было тяжко оставаться одному. Но вахта кончалась.
Владимир спустился на жилую палубу с таким ощущением, что где-то в укромном закоулке отсека притаилась Лида. Пришла сама и ждет, чтобы проститься…
Повернув кремальеру, Владимир боком протиснулся через отверстие лаза в жилой отсек. Полутемный коридор пуст, двери кают плотно затворены. Ее нигде нет… Ее и не могло быть… Просто он очень измучен и устал.
Каюта его располагалась вдоль правого борта. Бортовая стена выделана под ореховое дерево. Полукругом изгибаясь, она переходила в подволок. Казалось, что переборки сойдутся, если их не будет в длину распирать спальный кожаный диван, а в ширину — столик, что рядом с изголовьем. Все здесь было необходимо, просто и под рукой.
Владимир устало разделся и лег. До тошноты